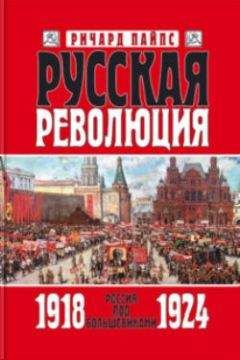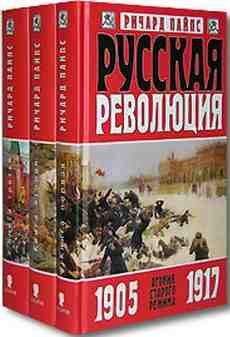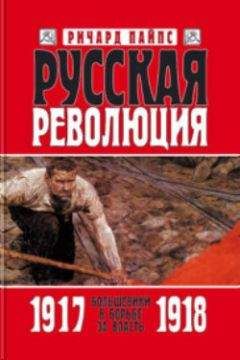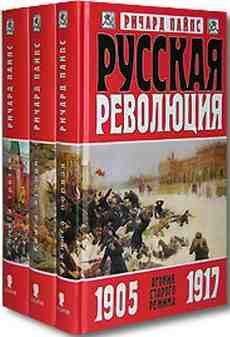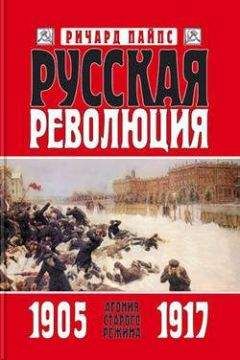Чтобы проанализировать отношения между коммунизмом и «фашизмом», следует отбросить общепринятые представления о том, что «революция» по самой своей природе есть воплощение равенства и интернационализма, тогда как националистические перевороты — контрреволюционны по сути. Эту ошибку допустили те консервативные круги Германии, которые поначалу поддержали Гитлера в надежде, что такой ярый националист не станет вынашивать революционных замыслов70. Характеристика «контрреволюционности» может быть полностью применима лишь к движениям, которые ставят своей целью подавить революцию и восстановить status quo, как, например, французские роялисты в 1790-х годах. Если под «революцией» понимать резкое свержение существующего политического строя, сопровождающееся глубокими переменами в экономике, социальном устройстве и культуре то тогда этот термин вполне применим и к антиэгалитарным и ксенофобным переворотам. Определение «революционный» описывает не существо перемен, но манеру, в которых они совершаются, — а именно их скоропалительный и насильственный характер. Таким образом, можно смело говорить о революции слева и о революции справа — а то, что они находятся в непримиримом противоречии друг с другом, объясняется их соперничеством за симпатии масс, а не разногласиями в методах или задачах. И Гитлер, и Муссолини вполне справедливо считали себя революционерами. Раушнинг заявлял, что национал-социализм в действительности более революционен по своим целям, чем коммунизм или анархизм71.
Но, вероятно, наиболее фундаментальное родство трех тоталитарных режимов проявляется в психологической плоскости. Коммунизм, фашизм и национал-социализм для завоевания симпатий масс и в доказательство того, что именно они — а не избранные демократическим путем правительства — являются истинными выразителями воли народа, нещадно раздували и эксплуатировали самые низменные чувства и предрассудки — классовые, расовые и этнические. И все три режима опирались на слепую ненависть.
Французские якобинцы первыми осознали политический потенциал классового чувства. Опираясь на него, они клеймили вечные заговоры аристократии и иных своих врагов: незадолго до окончательного падения они ввели закон об экспроприации частного имущества, носивший явно коммунистическую окраску72. Именно изучение Французской революции и ее последствий помогло Марксу сформулировать теорию классовой борьбы как доминанту истории. По его учению, социальный антагонизм в первую очередь заслуживает морального оправдания: ненависть, которую иудаизм проклинает как саморазрушительное чувство, а христианство (подразумевая «гневливость») воспринимает как один из серьезнейших грехов, превратилась в добродетель. Но ненависть — оружие обоюдоострое, и очень скоро жертвы вооружаются им в целях самозащиты. К концу XIX столетия появились теории, привлекающие этническую и расовую нетерпимость как ответ на социалистический призыв к классовой борьбе. В пророческой книге «Доктрины ненависти», вышедшей в 1902 году, Анатоль Леруа-Болье обращал внимание на близость друг к другу современных ему левых и правых экстремистов и предсказывал, что некий род тайного соглашения между ними после 1917 года станет реальностью73.
Ленину не потребовалось прилагать особых усилий, чтобы, спекулируя на извечных чувствах по отношению к богатым, «буржуям», сплотить городские низы и беднейшее крестьянство. Муссолини переформулировал классовую борьбу как конфликт между «имущими» и «неимущими» народами.
Гитлер воспринял приемы Муссолини, интерпретируя классовую борьбу как битву между расами и нациями, конкретно «арийцами» и евреями вкупе с теми народами, над которыми последние будто бы установили свое господство. [На возможность интерпретации классовой войны в расовом смысле указывал еще в 1924 году еврей-эмигрант из России И.М.Бикерман, предостерегая своих пробольшевистски настроенных соотечественников: «Почему не мог петлюровский вольный казак или деникинский доброволец быть последователем учения, по которому вся история сводится к борьбе не классов, а рас, и, исправляя грехи истории, уничтожать расу, признанную им источником всех зол? Грабить, убивать, насиловать, бесчинствовать одинаково удобно и под тем и под этим флагом» (Россия и евреи: Сб. ст. Берлин, 1924. Вып. 1 С. 59–60).]. Один из первых пронацистских теоретиков утверждал, что истинный конфликт современного мира сталкивает не трудящихся с капиталистами, но страны, где правит Volk (народ), против всемирного еврейского «империализма», и разрешен он может быть только путем создания условий, не дающих возможности для экономического выживания евреев и тем самым ведущих к их истреблению74. Революционным движениям любого толка — правым или левым — необходим конкретный объект ненависти, ибо гораздо проще поднять массы на борьбу с врагом видимым, нежели абстрактным.
Это обстоятельство теоретически обосновал близкий к нацистам теоретик Карл Шмитт. За шесть лет до прихода Гитлера к власти он возводил враждебность в ранг определяющего фактора политики: «Особое политическое различие, лежащее в основе политической деятельности и мотивов, это различие между другом и врагом. В мире политики оно соответствует относительно независимым противопоставлениям, существующим в других сферах: между добром и злом в этике, красотой и уродством в эстетике и так далее. Различие [между другом и врагом] самодостаточное — то есть оно не происходит ни из одного из вышеперечисленных противопоставлений и не сводится к ним… [Оно] может существовать и в теории и на практике, без привлечения других различий — моральных, эстетических, экономических и так далее. Политическому врагу не нужно быть воплощением нравственного зла или эстетического уродства; ему совсем не обязательно представлять собой экономического соперника, и, может быть, с ним даже весьма выгодно вести дела. Но он другой, чужой; и достаточно того, что в некотором крайнем экзистенциальном смысле он нечто другое, чуждое, так что в случае столкновения он будет представлять отрицание вашего бытия, и по этой причине ему должно противодействовать и с ним бороться, дабы сохранить самобытность (seinmassig) своей жизни»75.
Смысл этой напыщенной прозы в том, что политический процесс должен подчеркивать отличительные признаки тех или иных групп, потому что это единственный способ вызвать к жизни образ врага, без которого политика обойтись не может. «Другой» вовсе не должен быть врагом по существу: достаточно того, что он воспринимается как другой, не такой, как вы.
Именно склонность коммунистов к классовой ненависти так приглянулась Гитлеру, и по этой причине он оставил открытым путь в нацистскую партию разочаровавшимся коммунистам, в отличие от социал-демократов, — ведь ненависть не так уж трудно переориентировать с одного предмета на другой76. Подобным образом и среди сторонников Итальянской фашистской партии в начале 20-х годов было больше всего прежних коммунистов77.
Мы рассмотрим общие черты трех тоталитарных режимов в трех аспектах: структура, функции и власть правящей партии; отношения между партией и государством; и отношение партии к населению в целом.
1. Правящая партия
До установления диктатуры ленинского типа государство состояло из правительства и его подданных (граждан). Большевики ввели третий элемент, «партию-монополиста», стоящую и над правительством, и над обществом и при этом неподвластную контролю со стороны последних, — партию, которая в действительности была никакой не партией, которая правила, не будучи правительством, управляла людьми от их имени, но без их согласия. В термине «однопартийное государство» заключено внутреннее противоречие, поскольку тот политический организм, что управляет тоталитарным государством, вовсе не есть партия в привычном смысле слова и стоит особняком от государства. Это наиболее верная отличительная характеристика тоталитарного режима, ее важнейший атрибут, ленинское детище. Фашисты и нацисты прилежно скопировали эту модель.
А. Партия как орден избранныхВ отличие от истинно политических партий, которые стремятся расширить свои ряды, коммунистические, фашистские и нацистские организации были замкнутыми по своей природе. Прием в них требовал тщательной проверки, предусматривавшей такие критерии, как социальное происхождение, национальность, возраст, и сопровождался непрерывными «чистками» нежелательных элементов. Этим они напоминали «братства» или «олигархические братства» избранных, сохраняющиеся путем кооптации. Гитлер говорил Раушнингу, что применительно к НСРПГ «партия» — неточное название, вернее было бы ее называть «орденом»78. Фашистский теоретик определил муссолиниевскую партию как «церковь, то есть общину верующих, союз желаний и устремлений, верных высшей и единственной цели»79.