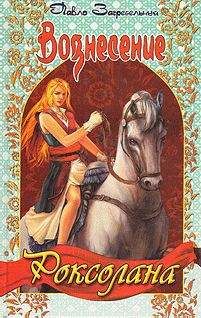Но валиде, точно чувствуя торжество в душе Роксоланы, незваная явилась вдруг в ее покои, озабоченно справилась о здоровье, чем даже растрогала молодую султаншу и та стала угощать валиде и взаимно спрашивать о ее здоровье, но доброжелательности им хватило ненадолго, ибо валиде, поджимая свои черные губы, повела речь о другом:
- До меня дошли слухи, что ты требуешь от султана раздать всех одалисок из гарема. Это правда?
- А если правда, то что? - жестко спросила Роксолана. - Разве не сказано у пророка: "Никогда не достигните вы благочестия, пока не будете расходовать то, что любите?"
- Ты, может, хотела бы совсем закрыть гарем? Такого еще никогда не бывало. Я не допущу позора падишаха.
- Почему же вы допустили собственный позор, когда султан Селим бросил своих жен и находил утеху с юношами?
- Ты! Как ты смеешь! Гяурка!
- Я султанша и такая же мусульманка, как и вы, моя валиде.
- Я воспитывала своего великого сына.
- А вы уверены, что он ваш сын?
Султанская мать схватилась за грудь. Такого ей не отваживался сказать еще никто. Имела сердце или нет, но схватилась за то место, где оно бьется у всех людей. Роксолана позвала на помощь. Прибежали евнухи, гаремный лекарь. Валиде была бледна, как смерть, не могла свободно вздохнуть, беспомощно шевелила пальцами, как будто хотела поймать, задержать жизнь, ускользавшую, отлетавшую от нее. Наконец пришла в себя, евнухи уложили ее на парчовые носилки, осторожно понесли в ее покои. Роксолана спокойно сидела, взяв на руки маленького Баязида, не проводила валиде даже взглядом, не видела, какой ненавистью сверкали глаза султанской матери, как вздрагивали ее черные губы, точно пиявки или змеи. Пусть! Не боялась теперь никого. Еще недавно была беззащитна и беспомощна. Тогда единственным оружием было ее тело, она еще не знала его силы и не верила в нее, поскольку это же тело было причиной ее неволи, ее проклятием и несчастьем. Впоследствии стало избавлением, орудием свободы, оружием. Теперь ее оружием будет султан. Она будет защищаться им и нападать тоже им. Эта мудрость открылась ей в тяжкие дни одиночества и недуга, в минуты, когда уже казалось, что она умирает. Выжила, чтобы бороться и побеждать. Всех!
КУЧУК
Стамбул представал во всей своей ободранной, грязной, перенасыщенной дикой жизнью красоте. Телесные судороги улиц. Голуби возле мечетей. Безделье и снование тысяч людей. Гулянье вместо смеха и плача. Гулянье от голода. От отчаянья. От одиночества. Самая спесивая и грязная толпа нищих, которая когда-либо ходила по земле. Шариат позволял побираться старым, бедным, слепым, параличным. Кадий Стамбула назначал главного поводыря нищих - башбея, который выдавал разрешение на право собирать милостыню. Разрешалось попрошайничать в базарные дни - понедельник и четверг. Ходили по улицам и площадям со знаменами, точно воины. К ним присоединялись бедные софты - кто там разберет, где нищие, а где мусульманские ученики? Есть хотят все. Нет прожорливее существа на земле, чем человек, а Стамбул самая прожорливая из столиц мира. Так велось еще от греческих императоров, не зря же Фатих и после завоевания Константинополя целых три года не решался переносить туда столицу из Эдирне. Султан Селим, проведший все свое царствование в походах, не слишком заботился о Стамбуле, установленные еще при Фатихе нормы снабжения столицы не менялись, а между тем город рос, количество бездельников увеличивалось с каждым днем, прожорливости столицы не было ни удержу, ни границ, и когда Сулейман после походов на Белград и Родос на несколько лет засел в своих дворцах, он пришел в ужас от Стамбула, который предстал ему гигантским, вечно разинутым ртом, бездонной глоткой, ненасытным желудком. Столица пожирала поставляемое провинциями в один день, проглатывала одним глотком и снова была голодна, недовольна, это была какая-то прорва, готовая поглотить весь мир, ненасытный молох, требующий принесения ему в жертву всего живого, жратвы и питья, одежды и молитв, дров и воды, посуды и пряностей, оружия и цветов, сладостей и соли, мудрости и огня, мечетей и базаров, коней и кошек, рабов и разбойников, судей и подметальщиков улиц. Днем и ночью отовсюду, сушей и морем, везли в Стамбул хлеб и мясо, рис и мед, растительное масло для пищи и для освещения, сыр, фрукты и овощи, пряности, краски, меха, украшения. Из Румелии и Анатолии шли бесконечные отары овец, из Валахии и Молдавии волы, из Крыма кони, продовольствие прибывало к пристаням Текфурдаг, Гелиболу, Гюмюль-дюйне, Ун-капаны. Когда великим визирем стал Ибрагим, он, по совету Скендер-челебии и Луиджи Грити, ввел по всей империи жесткий учет всего живого, всего, что выросло и могло вырасти, провинциям, санджакам и даже самым маленьким казам устанавливалось количество баранов, которых они должны были выкормить. Стамбул должен был знать о каждой дойной овце в самых отдаленных закутках огромной державы, точно указывались сроки поставок мяса для столицы и даже породы овец. Отары должны были прибывать в Стамбул не позже дня Касима из Румелии и Анатолии, бейлербею Диярбакыра велено было поставлять туркменских баранов из Зулькадарлы для султанского дворца, установлены были цены на овец: та, что ягнилась один раз, стоила двадцать акча, дважды - двадцать пять, трижды - двадцать восемь акча. Стамбульский кадий через назначенных им надсмотрщиков рынков - мухтесибов - следил, чтобы не нарушались установленные цены и порядок торговли. Чужеземные купцы имели право продавать только оптом, в торговых рядах стояли купцы стамбульские. Назначенные кадием эмины наблюдали, чтобы прежде всего закупалось все для султанских дворцов, потом для двора великого визиря, членов дивана, великого муфтия, дефтердара, для янычар и челяди и лишь потом позволялась вольная торговля. С ведома кадия мухтесибы устанавливали цены на хлеб, мясо, овощи и фрукты, на ячмень, корма для коней. Овощи и фрукты должны были быть свежие, кони подкованные. Товары качественные. Весы исправные. Аршины не укороченные. Мухтесиб ходил по рынку, слуги несли за ним фалаку - похожую на смычок толстую палку с крепкой веревкой, символ власти и наказаний. Провинившегося купца карали незамедлительно. Слуги мухтесиба скручивали ему ноги фалакой и давали тридцать девять ударов по пяткам. Мухтесиб мог проколоть нарушителю торговли мочку уха, разодрать ноздрю, отрезать ухо. Дважды в год стамбульские базары объезжал, переодевшись, великий визирь, чтобы проследить за тем, как несут службу мухтесибы.
В своей беспредельной жадности Стамбул замахнулся на освященный тысячелетиями обычай и привилегию Востока - на вольную торговлю, на вольные прибыли, на вольных и независимых купцов. Привыкшие к захватничеству и грабежам, здесь не полагались на случай, не надеялись на караваны с товарами и продовольствием, верили только в принуждение, жестокость и насилие. Купцы-джелабы, освобожденные от налогов, должны были поставлять овец и скот для Стамбула, сдавая их по принудительно низким ценам. На всех джелабов были заведены списки - ирсали, и уже ни скрыться, ни бежать, все равно ведь догонят, разыщут и на том свете, заставят. Джелабы, пригнав скот в столицу, отдав почти задаром все положенное для дворца султана, для шах-заде, визирей, бейлербеев, казиаскеров, капиджиев, нишанджиев, дефтердаров, реисов и эминов, продавали остатки по установленным ценам мясникам - касабам. Касабы тоже несли потери, но поскольку они были стамбульцами, а столичным жителям нельзя было наносить ущерб, то их убытки покрывались за счет принудительных поборов с ремесленных цехов.
Все было принудительно: принудительные поставки, принудительные торговцы, принудительные цены. Как ни усердствовали султанские чиновники, но дорога была далекая, терялись в ней целые отары овец, табуны скота, из каждых сорока отар, предназначенных для Стамбула, если и доходило до столицы десять - пятнадцать, и то хорошо, остальные же где-то исчезали по дороге, распродавались, разворовывались, и писцы великого визиря то и знай записывали: не пришло двадцать тысяч баранов, не пришло сорок тысяч, шестьдесят тысяч. Из Стамбула под страхом тягчайших наказаний запрещено было вывозить любое продовольствие: скот, хлеб, муку, оливковое масло, даже соль и цветы. Ибо и цветы провинция тоже обязана была поставлять для султанских и визирских дворцов: пятьдесят тысяч голубых гиацинтов из Мараги, полмиллиона гиацинтов из Азаха, четыреста кантар роз красных и триста кантар особых из Эдирне. Продовольствие и товары перехватывались еще за Стамбулом, придерживались, чтобы поднять цены, не допускались в столицу, когда же попадали в Стамбул, то и тут переполовинивались, чтобы тайком перепродать, вывезти из стен столицы и содрать там тройную цену. Спекулировали придворные, султанские повара и чашнигиры, слуги и воины, писцы и янычары, визири и сам великий визирь, который, загребая невероятные прибыли, не брезговал и мелочами, хорошо зная, что богатство начинается с маленькой акчи. Не помогали строгие султанские фирманы, показательные кары, по ночам на баржах и барках через Босфор переправлялись десятки тысяч овец к ближайшему порту на Мармаре - Муданье, а оттуда выкраденные из Стамбула отары либо угонялись в ободранные, голодные провинции, либо возвращались назад в столицу, где казна снова выкладывала за них денежки, чтобы отары снова были тайком переправлены на азиатский берег и еще раз перепроданы.