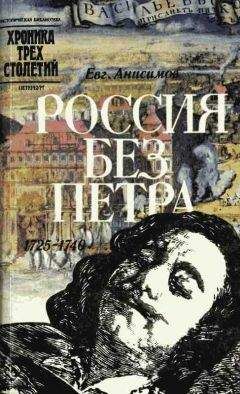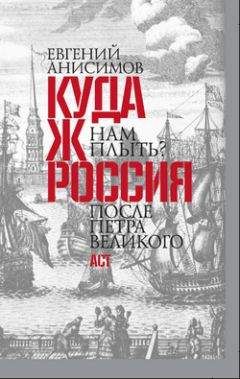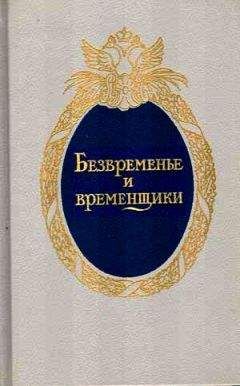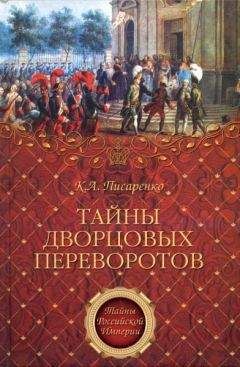«Громадье» планов Петра явно не сочеталось с естественным течением жизни, которая, несмотря на строгие правила, все же пробивалась, в виде нерегулярной застройки, и в новой столице. Именно на материковой. Адмиралтейской, части города, где с первых дней селились люди, без особого плана строились дома первопоселенцев — корабельных мастеров, купцов, солдат, а на берегу Мыи напротив будущего дворца Строгановых был сооружен и Гостиный двор — деловой центр материковой части города, которую никогда не разрывали, как другие его части, ледоходы и ледоставы Невы и ее рукавов.
Петр снисходительно смотрел на хаотичную застройку Адмиралтейской слободы, считая ее временной. Но, как известно, у нас нет ничего более постоянного, чем то, что задумано как временное. Адмиралтейская слобода разрослась, застроилась, и улицы ее, кривые и грязные, больше напоминали обычный русский город, чем новую регулярную столицу.
И вот 11 августа 1736 года произошло то, что часто происходило в русских деревянных городах: от случайной искры из трубки загорелось сено на дворе, дом, улица. Восемь часов пылала Адмиралтейская слобода, выгорев наполовину. Через год — в июне 1737 года — случился новый пожар и уничтожил все уцелевшие от пожара 1736 года постройки слободы. В огне погибло около тысячи домов и несколько сот человек. Пожары сопровождались повсеместными грабежами, когда — по словам указа 13 августа 1736 года — «вместо унимания пожара, многие из них (солдат и матросов. — Е. А.) только в грабеж и воровство, пуще разбойников, ударились и на иных дворах… те пожитки, которые от самих хозяев выношены были, сундуки насильственно разломали, пожитки растащили, письма и бумаги разбросали и, одним словом сказать, так поступали, что и в неприятельской земле пуще того и горче поступать было невозможно».
Два этих пожара расчистили место для регулярной застройки Адмиралтейской слободы. Ею начала заниматься специальная «Комиссия о санкт-петербургском строении», в которую входили А. Нарышкин, Ф. Соймонов и другие. Но главным в Комиссии стал архитектор Петр Михайлович Еропкин — ученик итальянского мастера Чиприани. Еропкин составил несколько планов застройки Адмиралтейского острова и других частей Петербурга. В основу планировки Адмиралтейской части Еропкин заложил трехлучевую систему. Три «першпективы» — Невская, Вознесенская и вновь прорубленная Средняя першпектива (Гороховая улица) — «вытекали» из единого центра — от башни Адмиралтейства. Их на разных уровнях пересекали цепи кольцевых магистралей и площадей.
Проект Еропкина и придал, в конечном счете, столице тот самый неповторимый «строгий, стройный вид». Опираясь на точную геодезическую съемку инженера Зихгейма, Еропкин распланировал ту часть города, которая стала называться Московской. Как пишет исследователь его наследия С. С. Бронштейн, «в результате работы Комиссии была намечена не механическая разбивка «линий», как то широко практиковалось в Петербурге, а в высшей степени интересная и зрелая в градостроительном отношении композиция кварталов, улиц, проездов и площадей, которая определила в основном ныне существующую планировку этого района. Литейная улица была продолжена (это ныне Владимирский проспект) и вливалась в площадь шестиугольной конфигурации, посредине которой предполагалось поставить церковь».
Именно Еропкин нанес на чертеж многие улицы города, по которым мы сейчас ходим. Он придумал Сенатскую площадь. Царскосельскую першпективу (Московский проспект) и многие другие жизненно важные магистрали города. Под пером Петра Михайловича довольно дикая просека на Васильевском острове превратилась в аллею длиной около двух километров — нынешний Большой проспект. Вместе с Коробовым Еропкин разработал «Должность архитектурной экспедиции» — кодекс архитектора, планировщика и строителя. Жизнь блестящего мастера закончилась трагично: летом 1740 года он был арестован и казнен на эшафоте вместе с Артемием Волынским13.
Труды уже первого поколения строителей не пропали даром — Петербург анненской поры производил на путешественника благоприятное впечатление. «Хотя страна здесь ровная и город открыт, — пишет прибывший в 1736 году датчанин фон Хафен, — но окрестности его до того окружены густыми лесами, что они, подобно толстой стене, заслоняют его. Наконец, река делает поворот к югу, вправо (думаю, что он плыл по Большой Невке и поворачивал к западу. — Е. Α.), и тогда вдруг лучшая часть города бросается в глаза. По обеим сторонам стоят отличные дома, все каменные, в четыре этажа, построенные на один манер и окрашенные желтою и белою краскою. При самом попутном ветре полчаса надо плыть до плашкоутного моста, и все это время по обоим берегам представляются подобныя же палаты. Но самое приятное, что представляется в этой картине, когда въезжаешь по Неве в Петербург, это крепостные строения, которыя придают месту столько же красы, как и возвышающаяся среди укреплений церковь с высокой, покрытой медью колокольнею, глава которой вызолочена червонным золотом. А также приятно поражает бой часов, какого нет ни в Амстердаме, ни в Лондоне, сопровождающий прелестною музыкою удары в колокол»14.
Город рос не из одного, а сразу из нескольких центров — слобод, которые в те годы еще не слились в единый городской массив, и поэтому уже тогда без городского транспорта перемещаться по Петербургу было трудно. Датчанин не без юмора описывает такую поездку на городском извозчике: «Люди знатные и богатые имеют свои экипажи и ездят в одну лошадь, парой и четверкою с форейтором, смотря по чину и званию. Иностранцы же и другие смертные могут обращаться к извощикам, которые наезжают в то время из деревень в большом числе и, стоя на каждом углу улицы, предлагают свои услуги. Сани у них короткие, низкие, не выше локтя от земли, и столь узки, что может поместиться только один седок. Запряжены они в одну лошадь, на которой сидит извощик для большей предосторожности потому, что в многолюдном Петербурге бубенчиков не употребляют во избежание большого шума. Если едущему известно положение места и несколько русских слов, а именно: «stupai! pramo! napravo! nalevo! stoy!», то можно очень скоро приехать куда угодно. В обширном Петербурге это большое удобство. Извощик обыкновенно гонит лошадь галопом, делая в час по 10 верст (огромная по тем временам скорость. — Е. Α.), и за это удовольствие платят 10 копеек. Здесь я должен заметить, что во всей России существует обычай едущих при встрече поворачивать направо. Поэтому даже при быстрой езде не происходит замешательства, и если кто забудет правило, то ему кричат встречные: „Держи правее!“» Другой мемуарист отмечал редкостную для России гладкость булыжных мостовых Петербурга.
Насладившись быстрой ездой и зрелищем бесконечных ровных улиц и прекрасных зданий нового города, путешественник искал достопримечательности, полезные не только глазу, но и уму. И такой достопримечательностью была Петербургская Академия наук с Кунсткамерой. Вот как описывается в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 5 августа 1736 года пятичасовая экскурсия персидского посла Хулефа Мирзы Кафи (так в газете), который прибыл на Васильевский остров «для смотрения хранящихся там редких и особливаго примечания достойных» вещей.
Но вначале он прошел не в здание Кунсткамеры, а в бывший дворец царицы Прасковьи, стоявший на месте нынешнего Зоологического музея. В нем размещалась Академия. Через академическую гимназию его провели в «словолитную, а оттуда наверх в ту палату, где всякие математические инструменты делаются». Здесь всем ведали петровский токарь Андрей Нартов и его помощники — умелые мастера-инструментальщики. (Не выдержавший травли коллег и вернувшийся в Германию академик Г. Бюльфингер писал в 1731 году: «Искуснейшие вещи делаются в Петербурге… трудно отыскать искусство, в котором я не мог бы назвать двух или трех отличнейших мастеров в Петербурге».)15
«Потом прошел он, — читаем мы о после в газете, — в физическую камеру, где в его присутствии разныя эксперименты антлиею пневматическою учинены были и при чем он особливое внимание и удовольствие показывал». Речь идет о пневматическом насосе, отсасывающем воздух из-под стеклянного колпака. Опыт производился на животных и птицах. Известен рассказ о том, как отнюдь не слабонервный Петр Великий прекратил опыт над ласточкой, посаженной под колпак и умиравшей без воздуха.
Из физической камеры перса провели в Гравировальную палату и типографию. Здесь — в «Грыдоровальной палате смотрел он все различные роды грыдорования, а потом пошел в Печатную палату грыдоровальных фигур, где в его бытность портреты Е.и. в и всея высокия императорския фамилии напечатаны были. Оттуда вели его через переплетную и книжную лавку как в русскую, так и в немецкую типографии, в которых некоторые на персидском языке зделанные стихи напечатаны и ему поднесены были».