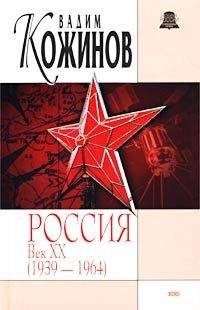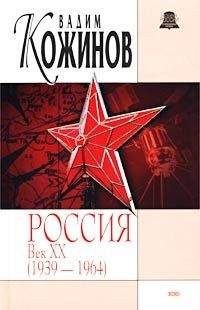Как не без оснований писала вдова Мандельштама Надежда Яковлевна, "мысль у О. М. всегда переходила в поступок". В юности, еще до революции. Осип Эмильевич четырежды посещал страны Западной Европы, прожив там в общей сложности более двух лет. И именно там поэт "выбрал" Россию и даже "отказался от соблазна еще раз посетить Европу", - несмотря на то, что в середине 1920-х годов "заграничный паспорт был обеспечен"; документы "пролежали без толку... - вспоминала вдова поэта, - до самого обыска 34-го года, когда их... вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку"304.
После 1917 года поэту казалось, что та народная основа России, которую он ценил превыше всего, не подвергнется жестокому давлению, и, очевидно, именно поэтому он так или иначе "принял" свершившееся. Он писал в мае 1918 года:
Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!..
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ.
В этих строках слово "свобода" употреблено, без сомнения, в ином (политически-правовом) значении, чем в процитированной выше статье поэта, где речь шла о "нравственной свободе" или, как сказано там же, "внутренней свободе", а не "внешней", - по сути дела, "формальной", - присущей Западу. И "сумерки" этой внешней свободы поэт вроде бы готов даже "прославить" ради "восхождения" высшего начала...
И Мандельштам вступил в острейший конфликт с новой властью только во время коллективизации, которую он воспринял как разрушение самых основ русского бытия, что и выражено, например, в его стихотворении 1933 года-года, когда тотальный голод поразил черноземные области страны:
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
То есть коллективизация предстает как всеобщая - космическая катастрофа, сокрушающая и народ, и даже природу...
Тем самым Мандельштам оказался в прямом конфликте не только с властью, но и с основной и господствовавшей частью тогдашней литературы. Так, Тынянов, ранее безосновательно писавший о поэте как о "чужеземце", нисколько не был озабочен судьбой русского крестьянства и с искренним пафосом говорил Корнею Чуковскому: "Сталин, как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи"305.
Другой известнейший писатель, Бабель, в декабре того самого гибельного 1933 года, когда Мандельштам создал только что процитированное стихотворение, утверждал в письме к своей сестре: "Колхозное движение сделало в этом году решающие успехи, и теперь открываются действительно безбрежные перспективы, земля преображается"306.
Анна Ахматова многозначительно сказала в своих "Записках" о Мандельштаме, что "слово народ (разрядка Ахматовой. - В.К.) не случайно фигурирует в его стихах"307. Литератор из известной эмигрантской семьи, Никита Струве, в 1988 году писал в монографии о поэте308: "Он ищет в своей верности четвертому сословию, то есть народу, объяснение своего двусмысленного отношения к веку"309 (то есть двойственного отношения к Революции и ее последствиям). Здесь же Никита Струве полемизирует с одним частным суждением Анны Ахматовой: "В своих "Записках" Ахматова жалеет, что Мандельштам покинул (в начале 1931 года. - В.К.) Ленинград, где у него были верные, понимавшие и ценившие его друзья - Тынянов, Гуковский, Эйхенбаум. Она приписывает это бегство семейным причинам, влиянию жены... Но это утверждение нам кажется поверхностным... Оно не дает удовлетворительного объяснения внутренним причинам, побудившим Мандельштама бросить... круг друзей... Сознательно или нет, Мандельштам покидает Ленинград, чтобы оторваться от ложной последовательности, чтобы забыть, упразднить прошлое", - то есть свое предшествующее отношение к действительности.
В Москве, куда поэт переселялся, его, по словам Струве, "песнь будет борьбой, вызовом, Мандельштам поставит на стихи карту своей жизни" (цит. изд., с. 52, 53). В Москве Мандельштам, - по сути дела, опровергая приведенные только что суждения Тынянова, - напишет крайне резкие стихи о Сталине, которые, отмечает Струве, "начинаются с широкого обобщения, с "мы", что придает стихотворению национальное измерение. Поэт отождествляет себя с "мы"..." (там же, с. 78).
И Анна Ахматова в самом деле едва ли была права, утверждая, что Тынянов и другие люди этого круга являлись "понимавшими" Мандельштама друзьями. В высшей степени показательно, что, переселившись в Москву, поэт обретает здесь совершенно иных друзей - Николая Клюева (о творчестве которого он восхищенно писал еще в 1922 году), Сергея Клычкова, Павла Васильева. Очевидец - С. И. Липкин - вспоминает, как "в 1931-м или в 1932 году" Мандельштам приходит в гости к Клычкову и Клюеву: "Клюев привстал, крепко обнял Мандельштама, они троекратно поцеловались"310.
Но, прежде чем говорить об этой дружбе, необходимо обратиться к теме коллективизации - этой "второй" революции. Сейчас общепринято мнение, что Мандельштам, создавая в ноябре 1933 года свое памфлетное стихотворение о Сталине, определил вождя вначале как "мужикоборца", но затем отказался от этого слова, - из чего вроде бы следует, что коллективизация не имела в глазах поэта главного, всеопределяющего значения. Однако едва ли не более основательным будет противоположное умозаключение. Ведь ясно, что процесс создания произведения - это путь от непосредственного переживания реального бытия к собственно художественной "реальности". И тот факт, что вначале явилось слово "мужикоборец", свидетельствует об особо существенном значении коллективизации для мандельштамовского восприятия фигуры Сталина (об этом, между прочим, верно писал в своей известной статье о поэте С. С. Аверинцев)311. А завершенное стихотворение - как и любое явление искусства - отнюдь не преследует цель "информировать" о тех явлениях самой действительности, которые побудили поэта его создать.
За полтора-два года до Мандельштама (то есть в 1931 - м или в начале 1932 года) сочинил "эпиграмму в античном духе" на Сталина Павел Васильев, для которого - как и для его старших друзей Клюева и Клычкова - наиболее неприемлемым событием эпохи была тогда, вне всякого сомнения, коллективизация. Тем не менее в васильевской эпиграмме о ней нет речи: