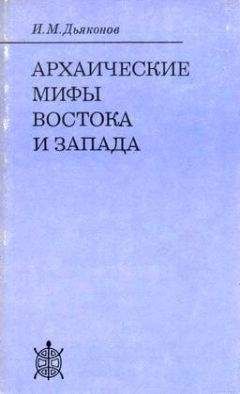Неразличение иерархии логических связей можно видеть и на грамматических примерах из древних языков: так, в шумерском одно и то же грамматическое средство (в данном случае несамостоятельное спрягаемое слово-энклитика — àm) употребляется для выделения именного сказуемого (логического предиката): lú-bé dingir-àm человек этот — бог есть, но также для выделения определения (эпитета): NN lú-ngeštug-àm NN — человек разумный, букв. NN человек-ухо есть, и иногда даже для сравнения: NN dUtu-àm mu-gub NN как солнце встал, букв. NN солнце есть, встал. Выражение отождествления, эпитета и сравнения одними и теми же средствами показывает возможность пользоваться отождествлением, эпитетом и сравнением в качестве обобщения — либо по принципу метафоры (т. е. так, что одно явление сопоставляется = отождествляется с другим, хотя с ним и не связанным, но обладающим общим с ним признаком, с целью обобщения именно этого признака, например «солнце — птица» вместо «солнце парит в пространстве и движется по небу», «источник воды — глаз» вместо «круглый, блестящий»), либо по принципу метонимии, т. е. подмены одного понятия другим, связанным с ним в каком-то отношении, необязательно по линии причинно-следственной связи, например: шум. ngeštu(g)-sum-(m)a ухом наделенный (= мудрый, глубокомысленный); аккадск. šumam lubni'am имя построю себе (= «прославлюсь») šuma lā zakrū именем не названы («не существуют»).
Явление эквивалентности сравнения и позитивного утверждения в их языковых выражениях встречается и в гораздо более развитых языках, чем шумерский или даже аккадский: санскр. matta iva пьяный словно (iva), но ср. и ita ivi отсюда именно (iva), kālam nā tīdirgham iva вреямя не слишком долгое совсем (iva). В ранней древнеиндийской литературе (особенно в эпосе) можно проследить, как поэтический троп (сравнение) лишь постепенно развивается из древнейшего мифологического уподоблеиния = отождествления.[48]
Различие между метафорой и метонимией относительно. По определению, метафора может быть развернута в сравнение — по той причине, что в метафоре сопоставляемые явления ни в какой органической связи между собой не состоят и могут быть связаны только сравнением; а метонимия в сравнение развернута быть не может по той причине, что сопоставляемые явления и так уже связаны между собой более прочными, объективными связями.[49] Однако такая классификация вполне пригодна лишь к приемам более или менее современной нам литературы, но неприменима без особых оговорок к древнему мифотворчеству или языкотворчеству — ведь то, что нам сейчас кажется непохожим, но зато связанным с сопоставляемым понятием логическою связью, могло ранее казаться похожим, и наоборот. Поэтому, для наших целей, вместо «метафора», «метонимия» целесообразнее говорить о семантических полях и семантических рядах, связанных ассоциативно-тропически и ассоциативно-эмоционально. В семантическое поле входят понятия, в данной исторической среде более или менее постоянно взаимозаменяемые или ассоциативно связываемые между собой в мифотворчестве и языкотворчестве. При этом обусловленность их связи, с нашей, современной точки зрения, может быть недостаточно очевидной, но в историческом плане раскрывается как «метафорическая» или одна из «метонимических» ассоциаций.
В одном конкретном языке редко можно проследить все возможные звенья семантического ряда, но почти всегда можно указать несколько звеньев такого ряда, который затем можно расширить, например, если показать семантические переходы между однокоренными словами в нескольких языках, имеющих общее происхождение. Возьмем, к примеру, семантические ряды, связанные с понятием «воды»: мы уже видели, что шум. a(ia) значит не только вода, но и семя, а также родитель и наследник. Но есть и другой семантический ряд: «смерти — болезни — тьмы — ночи — холода — воды». Этот ряд, по-видимому, экологически обусловлен, поэтому в жарких и сухих регионах он обычно представлен не так (ряд шум. ngig охватывает только «болезнь — тьму — ночь»). С другой стороны, семитский корень *ḥay-/*ḥaw- означает жизнь, а *Ḥāуа («Эа») обозначает бог животворных подземных пресных вод (и вообще всего полезного и благоприятствующего человеку), однако *ḥayy-at- означает не только живое, животное, но и специально змей, которого мы встречаем в мифах хранителем вод и источников (может быть, через семантический пучок «вода — влага — змея — смерть»?). Ср. еще праиндоевропейское *(Н) k'mon камень, откуда санскр. aśman камень, скала; небосвод и греч. ákmōn наковальня (небосвод мыслится твердым, стало быть, каменным или металлическим, и он же, по-видимому, наковальня для бога грома, молнии и дождя). Афразийское *samị обычно значит небо, а по-аккадски с абстрактным суффиксом — ût- ливень, дождь, только в чадских языках *samị даже и без суффикса специально значит дождь.[50]
На примере понятия «вода» мы видим, как вокруг одного понятия образуются не только ассоциативные семантические ряды, но и целые поля семантических ассоциаций. Эти поля, конечно, не имеют резких краев, так как ассоциации переплетаются и сменяются в зависимости от конкретных обстоятельств, местных природных условий и т. п. Разумеется, гораздо чаще мы находим в языке более очевидные (а часто позднейшие) семантические ассоциации; приведенные же примеры служат только для того, чтобы показать возможность неблизких — с нашей точки зрения, «метафорических» или «метонимических» — ассоциаций между явлениями. Такие метонимические ассоциации, при отсутствии в языке абстрактных средств для обобщения, неизбежно приводили к созданию мифов безо всякой потери убедительности такого, т. е. «тропического») или «мифического», осмысления этих явлений — по семантическим пучкам, рядам и полям. Отметим также, что эти ассоциации не только чрезвычайно образны, но и, неизбежно, эмоциональны. Это означает с физиологической точки зрения, что приводятся в действие не только участки коры головного мозга, заведующие речевой деятельностью и причинно-следственным осмыслением, но и ретикулярная формация мозга и гормональный аппарат. Заметим, что любые явления реального мира, произведшие впечатление на данное лицо, в результате известной защитно-тормозной деятельности мозга отражаются в области бессознательного (например, в сновидениях) разными «замещениями»[51] в пределах семантического поля (например, в сновидении умерший обычно является не полноценно живущим, но и не мертвым, а лежащим в темноте, или вымокшим от дождя, или больным, или уезжающим и т. п.). Это, конечно, тоже именно семантические ряды; появление их в подсознании указывает на их эмоциональный характер и происхождение.
Легко заметить, что приведенные семантические ассоциации весьма подобны возникающим в художественном творчестве, и не случайно, конечно, что мы не смогли избегнуть терминологии, заимствованной из области поэтики. В этом нет ничего удивительного: в искусстве, так же как в древнем языке и в мифе, обобщение достигается не через абстракцию, а через конкретное и отдельное, лишь бы оно было характерно и способствовало возникновению нужного обобщающего впечатления. Как наука, так и искусство — формы познания, однако наука пытается логически познать объект, а искусство — наше интуитивно-эмоциональное отношение к нему. В архаическом мышлении этого деления нет.[52]
Надо напомнить, что вплоть до поздней древности иных мировоззрений, кроме религиозных — в конечном счете мифологических, — не существовало.[53] Нерелигиозные течения греческой и восточной философии возникают лишь на третьем-четвертом тысячелетии существования классового общества и государства, но и тогда имеют численно весьма небольшой круг приверженцев. Поэтому и в отношении любого раннего памятника искусства мы не можем ставить вопрос: «религиозный или нерелигиозный», но только: «используемый в институциализованном культе или неиспользуемый». Ясно, что в обоих случаях мифология является содержанием сюжетов и поэтических тропов. Наиболее характерны в этом отношении греческие (и римские) мифы: все из них, дошедшие до нас, переданы нам не через религиозную античную традицию, от которой сохранилось мало следов, а через художественную: через гомеровские поэмы, «гомеровские гимны», поэмы Гесиода, через греческих трагиков, Горация, Вергилия, Овидия и т. п., причем в отношении более поздних из этих авторов можно весьма сомневаться, верили ли они сами в собственных мифологических персонажей.
Нужно помнить, что хотя мы поневоле имеем дело с записанными повествованиями на мифологические сюжеты, однако миф и сам по себе сюжетен. Наиболее архаические повествовательные тексты, например шумерские протоэпосы, почти целиком следуют мифу.