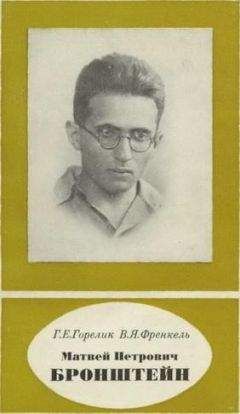Что касается папского довода, то Галилей употребил его не из вредности. Речь шла о сути новой — фундаментальной — физики. Довод очевидно опирался на библейскую фразу «Пути Господни неисповедимы», в современном переводе: «Непостижимы Его решения и неисследимы пути Его». Что мог на это возразить Галилей, с его несомненной верой в Бога и с полным доверием к Слову Божьему?
Он мог сказать, что контекст этой фразы говорит не об устройстве Вселенной, а об отношении Бога к человеку и о внутреннем мире человека с его свободой и неповторимостью. А внешний мир — Вселенная — уже звездным небом дает человеку пример постоянства и закономерности. Не зря же Бог наделил человека способностью к познанию. Галилей чувствовал это по себе. И знал по своему опыту, что человек способен не только выдвигать правдоподобные гипотезы, но и проверять их, отвергать или подтверждать, устанавливая их соответствие устройству Вселенной, созданной Творцом. В Библии ничего не написано о законе плавания, но Архимед сумел этот закон открыть. И Галилей в своем поиске фундаментальных законов природы опирался на веру в закономерность мироздания.
Исследуя пути Господни в устройстве Вселенной и зная, как опыт и язык математики позволяют познавать это устройство, Галилей защищал Библию от чуждых ей задач и, соответственно, от противоречий с результатами научного познания. Он был лучшего мнения о Творце, чем Папа Урбан VIII, а в отношении к истине — святее Папы Римского.
Скорость света — первая фундаментальная константа
Среди неудач Галилея одна столь поучительна, что язык не поворачивается назвать ее неудачей.
В своей последней книге Галилей рассказал о попытке измерить скорость света, и, судя по всему, поводом стало измерение другой скорости — скорости звука. Это, конечно, «две большие разницы». Услышав эхо своего голоса, легко понять, что звук вернулся через малое, но заметное время, и, значит, он распространяется не мгновенно, а с какой-то — пусть и большой — скоростью. Однако в обыденном опыте нет никаких признаков того, что и свету требуется какое-то время на путешествие от источника света до освещенного предмета. Аристотель подытожил это философски: «Свет — это присутствие чего-то, а не движение чего-либо». Так же думали и все коллеги-современники Галилея. Он первым употребил само выражение «скорость света».
Мгновенность — или бесконечная скорость — света предполагалась и в первых измерениях скорости звука. Наблюдая издалека выстрел пушки и полагая, что вспышку выстрела видят немедленно, измеряли время между вспышкой и звуком выстрела. Разделив расстояние до пушки на это время, определили, что скорость звука — около 500 метров в секунду (что всего в полтора раза больше истинного значения).
Галилей, однако, полагал, что мгновенность света — лишь гипотеза, и придумал, как ее проверить. Для этого нужны два человека с фонарями, которые можно открывать и закрывать — сейчас бы сказали: включать и выключать. Сначала они, находясь вблизи, тренируются включать фонарь, увидев свет другого фонаря. Затем расходятся на большое расстояние. Первый включает фонарь, увидев свет которого, включает свой фонарь второй. И первый измеряет время от момента, когда он включил свой фонарь, до момента, когда увидел свет второго фонаря. За это время свет прошел путь туда и обратно.
Если второй фонарь откроется так же быстро, как и на близком расстоянии, — пишет Галилей, — значит, свет доходит мгновенно, а если свету требуется время, то расстояния в три мили хватило бы, чтобы обнаружить задержку. Если же опыт делать на расстоянии, скажем, 8—10 миль, то увидеть слабый свет от далекого фонаря можно, используя телескоп.
Судя по словам Галилея, он проделал такой опыт лишь на расстоянии одной мили и задержку не заметил. И все же высказал догадку, что свет распространяется не мгновенно, хоть и необычайно быстро.
Отец современной физики не объяснил, почему трех миль хватило бы, чтобы обнаружить не-мгновенность света, и зачем тогда увеличивать расстояние до 10 миль. Если минимальным промежутком времени счесть один удар пульса, то проделанный им опыт означал, что свет прошел две мили за время, меньшее секунды, то есть со скоростью как минимум в 10 раз большей скорости звука. А если бы задержки не обнаружилось и на расстоянии 10 миль, это означало бы, что скорость света как минимум в 100 раз больше скорости звука.
Галилей не виноват, что на самом деле скорость света больше скорости звука в миллион раз. Если бы он это заподозрил, то мог сообразить, что земных миль для его опыта не хватит, и вспомнил бы открытые им спутники Юпитера. Ведь, вращаясь, спутник играет роль фонаря, который открывается, выходя из тени Юпитера, и закрывается, заходя в его тень. Конечно, впрямую для опыта Галилея такой фонарь не годится — открывается безо всякой команды через равные интервалы времени. Но опыт можно изменить, заметив, что земной наблюдатель не сидит на месте, даже вглядываясь в телескоп: вместе с телескопом и с планетой Земля он движется вокруг Солнца. Когда наблюдатель приближается к Юпитеру, каждый следующий «восход» спутника наблюдается раньше «положенного» (усредненного), потому что первому лучу от спутника надо пройти меньшее расстояние до Земли. Первый луч прибудет раньше на долю периода, пропорциональную скорости Земли и обратно пропорциональную скорости света. Значит, скорость света можно вычислить, измеряя опережение (или запаздывание) восхода спутника Юпитера.
До такого способа сам Галилей не додумался, хотя в его духе были и земные применения астрономии, и приложение земной физики к пониманию небесных явлений. Он же предложил использовать телескоп в земном опыте по измерению скорости света. А открыв спутники Юпитера и измерив периоды их обращения, разглядел в этом небесные часы «с боем» в момент восхода каждого спутника. Такие часы, доступные всем (у кого есть телескоп), сообразил Галилей, можно использовать для определения географической долготы. А это было жизненно важно для дальнего мореплавания и для экономики.
Так что отец современной физики не только изобрел ее, но и продемонстрировал взаимосвязь науки, техники и экономики.
В физике Галилея проявилось хитрое взаимодействие теории и эксперимента в поиске фундаментальных законов природы. Ясно, как важно проверять закон со все большей точностью. Однако нередко малая точность измерений помогала делать открытия. Например, важнейший для Галилея закон о том, что период колебаний маятника не зависит от амплитуды колебаний, выполняется тем точнее, чем меньше амплитуда. Поэтому, если бы Галилей проверял этот закон не своим пульсом, а очень точным хронометром, ему было бы труднее.
Аналогично — со спутниками Юпитера. Измерив их периоды обращения, Галилей оставил их дальнейшее изучение астрономам. Оставил он также им в наследство свою идею использовать эти спутники в качестве универсальных часов для определения долготы. Для этого требовалось знать периоды обращения спутников, или расписание их затмений, как можно точнее, чем астрономы и занялись, стремясь к свойственной им астрономической точности. Через тридцать лет после смерти Галилея астрономы накопили достаточное количество наблюдений, чтобы обнаружить странную неравномерность хода космических часов. Период обращения спутника иногда был короче, иногда длиннее. В этой неравномерности обнаружилась своя закономерность: короче период становился, когда Земля приближалась к Юпитеру, и длиннее — когда удалялась. Тогда-то астрономы, изучавшие Галилеевы спутники, вспомнили об уверенности Галилея в том, что свет распространяется с огромной, но конечной скоростью. Соединив наблюдения периодов спутников со знанием планетных движений, и получили впервые величину скорости света — 220 тысяч километров в секунду, что близко к истинной величине — около 300 тысяч километров в секунду.
Таким образом, интуиция Галилея оправдалась, как ни удивительно. А это очень удивительно. Ведь не было никаких наблюдаемых свидетельств в пользу конечной скорости света. И выдающиеся современники Галилея, которые занимались наукой о свете, Кеплер и Декарт, считали скорость света бесконечной. Почему Галилей оказался проницательней своих коллег? Потому что был гением и фундаментальным физиком.
Размышляя о скорости света, Галилей видел весь мир физических явлений и верил в глубинное единство этого мира. Зная, что солнечный свет, собранный в вогнутом зеркале, способен расплавить свинец, он сопоставил это «яростное» действие света с разрядом молнии и взрывом пороха, которые «сопровождаются движением и притом очень быстрым». И заключил: «Поэтому я не представляю себе, чтобы действие света обходилось без движения, притом наибыстрейшего».
Галилей был уверен, что Книга Природы «написана на языке математики», но знал, что содержание этой книги — физика. Поэтому, слушая свою интуицию, он не верил ей на слово, а придумывал, как проверять ее самым надежным для физика путем — измерительными экспериментами. Со светом ему это не удалось — точность измерений была слишком мала. Но ему удалось подарить физике саму идею конечной скорости света. Эта идея, благодаря другому подарку — Галилеевым спутникам Юпитера — стала достоверным фактом науки спустя лишь несколько десятилетий после его смерти, в самом начале его бессмертной славы.