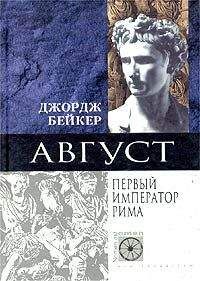Уже в начале этих действий Антония Бруту и Кассию стало очевидно, что им небезопасно оставаться в Риме, особенно теперь, когда большинство народа было не на их стороне. Старые воины-ветераны, последовательные и твердые сторонники Цезаря, хлынули в город, чтобы определить отношение властей к себе; и многие из них записывались на службу к Антонию. Начался исход влиятельных антицезарианцев из города. Это был настолько спонтанный процесс и столь неорганизованный, что многие руководители не знали, где находятся их сторонники и каковы их планы. Цицерон уехал из города в начале апреля, примерно через три недели после убийства Цезаря, в свое поместье в Кампании. Когда 10 апреля он проезжал Ланувий по пути на юг, то и не подозревал, что там находятся Брут и Кассий. Тяжелое чувство охватило противников Цезаря, над ними нависла угроза, и Цицерон стал их рупором, который перевел ощущения в слова. Он стал осознавать, что убийцы Цезаря, предполагаемого тирана, вместо того чтобы освободить Рим от всего, что его давило, не добились никакого результата, кроме разве того, что получили нового, еще более ужасного, чем Цезарь, тирана — Марка Антония. «Мы убили тирана, но не тиранию», — писал он в письме Аттику (XIV, 14). Ни он и ни кто другой не могли объяснить причину того паралича, который сковал их руки. У них была, как они думали, великая и славная цель — освобождение человечества от тирана. И вот надежды не оправдались. Никто не кричал об этом. Никто за них не боролся. Никто, кроме кучки богатых людей, не выказал теплых чувств к славному Бруту и великолепному Кассию. Ошеломляющий результат!
Через неделю, 17 апреля, Цицерон, продвигаясь вдоль побережья через Астуру, Фунды, Формиал и Синуессу, наконец прибыл в Путеолы. В пути он слышал, что Марк Брут отбыл в Ланувий, где у него поместье, и что Требоний, другой заговорщик, отправился в Азию. Он должен был еще раньше слышать, что Децим Брут отправился на север в Цизальпийскую Галлию, чтобы возглавить войско, которое его там ожидало. Без сомнения, он уже знал, что Тиллий Цимбер скрылся в Вифинии. Они разбежались, не имея общего плана и цели, в то время как Марк Антоний и сторонники Цезаря быстро овладевали Римом и собирали свои силы весьма основательно. Как это могло случиться?.. Цицерон едва ли мог дать ответ.
Тем временем неожиданно для себя Цицерон, прибыв в Путеолы, попал в самую гущу событий. Он обнаружил, что близкие друзья Юлия и члены его кружка Гирций и Панса находились там; также там был и Луций Корнелий Бальб, темнокожий финикиец, инженер и глава штаба Юлия.
Что они здесь делали? Оказывается, они прибыли сюда, чтобы встретить юного Гая Октавия в доме его матери — он как раз примыкал к вилле Цицерона!.. Во время пути Цицерон не раз размышлял о том, где же находится Октавий и чем он занят. Ответ был неожиданным — он подъезжал к Путеолам.
Октавий в Неаполе. Прием Октавия. Октавий и Цицерон. Цицерон-доктринер. Обычай Юлия. Политическая интуиция
18 апреля, на следующий день после прибытия Цицерона, Октавий прибыл в Неаполь. С характерной для него осторожностью он не высадился в Брундизии, поскольку не знал, какой прием ему будет оказан; он направился к югу в Гидрунт, а затем совершил поездку по «каблуку» Италии, пока не достиг Лупий. Здесь он несколько задержался, пока не выяснил, как именно Обстоят дела. Ветераны Цезаря собрались в Брундизии, исполненные рвения и гнева на убийц Цезаря, а также желания взять наследника Юлия под свое крыло. Удовлетворенный этим известием, Октавий направился в Брундизии, где не совершил ни единой ошибки. Первый прием, который ему оказали, мог обрадовать кого угодно, но не человека с холодным рассудком. Его встречали толпы ветеранов и требовали отомстить за убийство Цезаря. Они, без сомнения, уважали человека, которого Юлий назвал своим преемником. Октавий, заметив их готовность следовать его приказам, дал вежливые и ничего не значащие ответы и продолжил свой путь в Рим. Однако наверняка не преминул установить более тесные, чем он выказал на публике, контакты и добиться взаимопонимания со своими сторонниками и оставил там своих людей. После того как он переправился через Самний, к нему присоединились желающие сопровождать его в Рим, чтобы защищать его и отстаивать его требования.
Бальб никогда не был слишком популярной личностью ни у своих современников, ни у последующих историков; и все же вполне вероятно, что он (подобно исповеднику Ришелье отцу Иосифу) был одним из самых влиятельных людей того времени. Бальб встретил молодого Октавия в Неаполе — старый, опытный человек, более других посвященный в планы Юлия, и хрупкий юноша с девичьим лицом, наследник Юлия. Проводив Октавия на виллу его отчима Луция Марция Филиппа, Бальб вернулся к Цицерону, чтобы рассказать ему, что произошло, во всяком случае, в той мере, насколько считал это возможным. Октавий, сообщил он Цицерону, приехал, чтобы вступить в права наследства своего двоюродного деда. Он, возможно, намекнул, что при таких обстоятельствах вероятно серьезное столкновение между Октавием и Марком Антонием, ибо Цицерон изложил оба предположения в своем письме своему другу Аттику. Он надеялся, что оба окажутся достоверными.
Именно Бальб представил Октавия Цицерону; и молодой человек оказался именно таким, чтобы произвести на известного оратора благоприятное впечатление. Спокойствие, скромность и изысканность манер, а также глубокое уважение к Марку Туллию Цицерону — эти достоинства, скорее всего, вызвали одобрение и восхищение Цицерона. «Он относится ко мне с величайшим почтением и дружелюбием», — писал Цицерон Аттику. Но затем он излагает в письме свою главную мысль, которая определяет его действия более других: «Его близкие обращаются к нему как к Цезарю — но не Филипп, я тоже не стал этого делать. Я заявил, что ему невозможно быть доблестным гражданином, пока его окружает так много людей, угрожающих смертью нашим друзьям. Они говорят, что случившееся (имеется в виду убийство Цезаря) нельзя терпеть. Как ты полагаешь, что произойдет, когда мальчик прибудет в Рим, где наши освободители не могут пребывать в безопасности? Впрочем, они всегда будут славны, а в сознании правоты своего поступка даже счастливы. Но мы, если я не ошибаюсь, будем повержены».
Короче, по мнению Цицерона, Октавий не может быть истинно достойным гражданином, видя, что его друзья смертельно опасны для своих политических врагов, которые убили их любимого предводителя; но убить Цезаря — о, это было делом высочайшей чести, и те, кто это совершил (двадцать два против одного), разумеется, будут удовлетворены сознанием справедливости совершенного дела и гражданской доблести… Вот к чему порой приходят противоречивые люди!
Как же можно объяснить то необычное обстоятельство, что Цицерон, которого мы обычно — и не без причины — относим к наиболее просвещенным людям своего времени, мог превозносить политическое убийство? Если и есть какой-либо метод политической деятельности, который является крайним заблуждением, зловещ по своим результатам и гибелен для государства, которое терпит это, так это склонность к политическому насилию, и человек, одобряющий убийство политических оппонентов, — такой же нарушитель закона, порядка и разумной формы правления, как и человек, его совершивший. Как же получилось, что автор трактатов «О государстве», «Об обязанностях» и «О пределах» прославлял убийство такого человека, как Гай Юлий Цезарь, и восхвалял такого ничтожного, невежественного и неспособного человека, как Марк Брут? Вопрос остался бы без ответа, не напиши Цицерон книг, благодаря которым он получил славу просветителя. Ключ к решению этой тайны можно найти на страницах его книги «О государстве».
Марк Туллий Цицерон был доктринером, то есть человеком, чей идеал политического правления целиком основывался на прежнем опыте других людей древности и чей литературный критицизм имел те же корни. В его трудах нет и намека на то, что он когда-либо соприкасался с истинными нуждами повседневности или что он когда-либо предполагал, что с нуждами его современников следует считаться. Его интересовали идеи, а не людские нужды. В этом он был противоположностью Юлия, который обучил юношу Октавия, и его идеи дали всходы в молодой душе. Юлий, хотя и мог позабавиться общими соображениями о добре, изложенными в трактате Цицерона «О государстве», а также теми, которые не менялись на протяжении поколений со времени написания Аристотелем его «Политики», — соображениями, которые были приняты в его время, — все же руководствовался прежде всего насущными требованиями дня. Он, возможно, не слишком высоко ценил народные голоса, но он к ним постоянно прислушивался. Он мог преступить любую традиционную теорию древности, если того требовала необходимость, и даже огорчить некоторую часть своих избирателей. Он жил в мире людей, а не в мире идей.