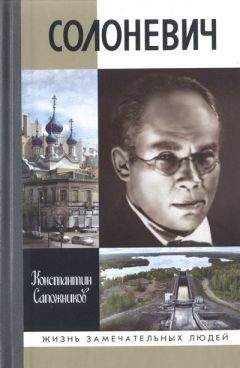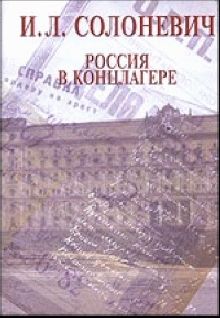Добротинъ какъ-то сразу осeкается, его лицо на одинъ мигъ перекашивается яростью, и изъ подъ лоснящейся поверхности хорошо откормленнаго и благодушно-корректнаго, если хотите, даже слегка европеизированнаго "слeдователя" мелькаетъ оскалъ чекистскихъ челюстей.
-- Ахъ, такъ вы -- такъ...
-- Да, я -- такъ...
Мы нeсколько секундъ смотримъ другъ на друга въ упоръ.
-- Ну, мы васъ заставимъ сознаться...
-- Очень мало вeроятно...
По лицу Добротина видна, такъ сказать, борьба стилей. Онъ сбился со своего европейскаго стиля и почему-то не рискуетъ перейти къ обычному чекистскому: то-ли ему не приказано, то-ли онъ побаивается: за три недeли тюремной голодовки я не очень уже ослабь физически и терять мнe нечего. Разговоръ заканчивается совсeмъ ужъ глупо:
-- Вотъ видите, -- раздраженно говоритъ Добротинъ. -- А я для васъ даже выхлопоталъ сухарей изъ вашего запаса.
-- Что-же, вы думали купить сухарями мои показанiя?
-- Ничего я не думалъ покупать. Забирайте ваши сухари. Можете идти въ камеру.
СИНЕДРIОНЪ
На другой же день меня снова вызываютъ на допросъ. На этотъ разъ Добротинъ -- не одинъ. Вмeстe съ нимъ -- еще какихъ-то три слeдователя, видимо, чиномъ значительно повыше. Одинъ -- въ чекистской формe и съ двумя ромбами въ петлицe. Дeло идетъ всерьезъ.
Добротинъ держится пассивно и въ тeни. Допрашиваютъ тe трое. Около пяти часовъ идутъ безконечные вопросы о всeхъ моихъ {29} знакомыхъ, снова выплываетъ уродливый, нелeпый остовъ Степушкинаго детективнаго романа, но на этотъ разъ уже въ новомъ варiантe. Меня въ шпiонажe уже не обвиняютъ. Но граждане X, Y, Z и прочiе занимались шпiонажемъ, и я объ этомъ не могу не знать. О Степушкиномъ шпiонажe тоже почти не заикаются, весь упоръ дeлается на нeсколькихъ моихъ иностранныхъ и не-иностранныхъ знакомыхъ. Требуется, чтобы я подписалъ показанiя, ихъ изобличающiя, и тогда... опять разговоровъ о молодости моего сына, о моей собственной судьбe, о судьбe брата. Намеки на то, что мои показанiи весьма существенны "съ международной точки зрeнiя", что, въ виду дипломатическаго характера всего этого дeла, имя мое нигдe не будетъ названо. Потомъ намеки -- и весьма прозрачные -- на разстрeлъ для всeхъ насъ трехъ, въ случаe моего отказа и т.д. и т.д.
Часы проходятъ, я чувствую, что допросъ превращается въ конвейеръ. Слeдователи то выходятъ, то приходятъ. Мнe трудно разобрать ихъ лица. Я сижу на ярко освeщенномъ мeстe, въ креслe, у письменнаго стола. За столомъ -Добротинъ, остальные -- въ тeни, у стeны огромнаго кабинета, на какомъ-то диванe.
Провраться я не могу -- хотя бы просто потому, что я рeшительно ничего не выдумываю. Но этотъ многочасовый допросъ, это огромное нервное напряженiе временами уже заволакиваетъ сознанiе какой-то апатiей, какимъ-то безразличiемъ. Я чувствую, что этотъ конвейеръ надо остановить.
-- Я васъ не понимаю, -- говоритъ человeкъ съ двумя ромбами. -- Васъ въ активномъ шпiонажe мы не обвиняемъ. Но какой вамъ смыслъ топить себя, выгораживая другихъ. Васъ они такъ не выгораживаютъ...
Что значитъ глаголъ "не выгораживаютъ" -- и еще въ настоящемъ времени. Что -- эти люди или часть изъ нихъ уже арестованы? И, дeйствительно, "не выгораживаютъ" меня? Или просто -- это новый трюкъ?
Во всякомъ случаe -- конвейеръ надо остановить.
Со всeмъ доступнымъ мнe спокойствiемъ и со всей доступной мнe твердостью я говорю приблизительно слeдующее:
-- Я -- журналистъ и, слeдовательно, достаточно опытный въ совeтскихъ дeлахъ человeкъ. Я не мальчикъ и не трусъ. Я не питаю никакихъ иллюзiй относительно своей собственной судьбы и судьбы моихъ близкихъ. Я ни на одну минуту и ни на одну копeйку не вeрю ни обeщанiямъ, ни увeщеванiямъ ГПУ -весь этотъ романъ я считаю форменнымъ вздоромъ и убeжденъ въ томъ, что такимъ же вздоромъ считаютъ его и мои слeдователи: ни одинъ мало-мальски здравомыслящiй человeкъ ничeмъ инымъ и считать его не можетъ. И что, въ виду всего этого, я никакихъ показанiй не только подписывать, но и вообще давать не буду.
-- То-есть, какъ это вы не будете? -- вскакиваетъ съ мeста одинъ изъ слeдователей -- и замолкаетъ... Человeкъ съ двумя ромбами медленно подходитъ къ столу, зажигаетъ папиросу и говоритъ:
-- Ну, что-жъ, Иванъ Лукьяновичъ, -- вы сами подписали {30} вашъ приговоръ!.. И не только вашъ. Мы хотeли дать вамъ возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дeло. Можете идти...
Я встаю и направляюсь къ двери, у которой стоитъ часовой.
-- Если надумаетесь, -- говоритъ мнe въ догонку человeкъ съ двумя ромбами, -- сообщите вашему слeдователю... Если не будетъ поздно...
-- Не надумаюсь...
Но когда я вернулся въ камеру, я былъ совсeмъ безъ силъ. Точно вынули что-то самое цeнное въ жизни и голову наполнили безконечной тьмой и отчаянiемъ. Спасъ ли я кого-нибудь въ реальности? Не отдалъ ли я брата и сына на расправу этому человeку съ двумя ромбами? Развe я знаю, какiе аресты произведены въ Москвe и какiе методы допросовъ были примeнены и какiе романы плетутся или сплетены тамъ. Я знаю, я твердо знаю, знаетъ моя логика, мой разсудокъ, знаетъ весь мой опытъ, что я правильно поставилъ вопросъ. Но откуда-то со дна сознанiя подымается что-то темное, что-то почти паническое -- и за всeмъ этимъ кудрявая голова сына, развороченная выстрeломъ изъ револьвера на близкомъ разстоянiи...
Я забрался съ головой подъ одeяло, чтобы ничего не видeть, чтобы меня не видeли въ этотъ глазокъ, чтобы не подстерегли минуты упадка.
Но дверь лязгнула, въ камеру вбeжали два надзирателя и стали стаскивать одeяло. Чего они хотeли, я не догадался, хотя я зналъ, что существуетъ система медленнаго, но довольно вeрнаго самоубiйства: перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерiя передавлена, наступаетъ сонъ, потомъ смерть. Но я уже оправился.
-- Мнe мeшаетъ свeтъ.
-- Все равно, голову закрывать не полагается...
Надзиратели ушли -- но волчокъ поскрипывалъ всю ночь...
ПРИГОВОРЪ
Наступили дни безмолвнаго ожиданiя. Гдe-то тамъ, въ гигантскихъ и безпощадныхъ зубцахъ ГПУ-ской машины, вертится стопка бумаги съ помeткой: "дeло ? 2248". Стопка бeжитъ по какимъ-то роликамъ, подхватывается какими-то шестеренками... Потомъ подхватитъ ее какая-то одна, особенная шестеренка, и вотъ придутъ ко мнe и скажутъ: "собирайте вещи"...
Я узнаю, въ чемъ дeло, потому что они придутъ не вдвоемъ и даже не втроемъ. Они придутъ ночью. У нихъ будутъ револьверы въ рукахъ, и эти револьверы будутъ дрожать больше, чeмъ дрожалъ кольтъ въ рукахъ Добротина въ вагонe ? 13.
Снова -- безконечныя безсонныя ночи. Тускло съ середины потолка подмигиваетъ электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночекъ, лишь изрeдка прерываемая чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрeзанность отъ всего мiра. Ощущенье человeка похороненнаго заживо.
Такъ проходятъ три мeсяца. {31}
___
Рано утромъ, часовъ въ шесть, въ камеру входитъ надзиратель. Въ рукe у него какая-то бумажка.
-- Фамилiя?
-- Солоневичъ, Иванъ Лукьяновичъ...
-- Выписка изъ постановленiя чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО отъ 28 ноября 1933 года.
У меня чуть-чуть замираетъ сердце, но въ мозгу -- уже ясно: это не разстрeлъ. Надзиратель одинъ и безъ оружiя.
...Слушали: дeло ? 2248 гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, по обвиненiю его въ преступленiяхъ, предусмотрeнныхъ ст. ст. 58 пунктъ 6; 58 пунктъ 10; 58 пунктъ 11 и 59 пунктъ 10...
Постановили: признать гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, виновнымъ въ преступленiяхъ, предусмотрeнныхъ указанными статьями, и заключить его въ исправительно-трудовой лагерь срокомъ на 8 лeтъ. Распишитесь...
Надзиратель кладетъ бумажку на столъ, текстомъ книзу. Я хочу лично прочесть приговоръ и записать номеръ дeла, дату и пр. Надзиратель не позволяетъ. Я отказываюсь расписаться. Въ концe концовъ, онъ уступаетъ.
Уже потомъ, въ концлагерe, я узналъ, что это -- обычная манера объявленiя приговора (впрочемъ, крестьянамъ очень часто приговора не объявляютъ вовсе). И человeкъ попадаетъ въ лагерь, не зная или не помня номера дeла, даты приговора, безъ чего всякiя заявленiя и обжалованiя почти невозможны и что въ высокой степени затрудняетъ всякую юридическую помощь заключеннымъ...
Итакъ -- восемь лeтъ концентрацiоннаго лагеря. Путевка на восемь лeтъ каторги, но все-таки не путевка на смерть...
Охватываетъ чувство огромнаго облегченiя. И въ тотъ же моментъ въ мозгу вспыхиваетъ цeлый рядъ вопросовъ: отчего такой милостивый приговоръ, даже не 10, а только 8 лeтъ? Что съ Юрой, Борисомъ, Ириной, Степушкой? И въ концe этого списка вопросовъ -- послeднiй, какъ удастся очередная -- которая по счету? -- попытка побeга. Ибо если мнe и совeтская воля была невтерпежъ, то что же говорить о совeтской каторгe?
На вопросъ объ относительной мягкости приговора у меня отвeта нeтъ и до сихъ поръ. Наиболeе вeроятное объясненiе заключается въ томъ, что мы не подписали никакихъ доносовъ и не написали никакихъ романовъ. Фигура "романиста", какъ бы его не улещали во время допроса, всегда остается нежелательной фигурой, конечно, уже послe окончательной редакцiи романа. Онъ уже написалъ все, что отъ него требовалось, а потомъ, изъ концлагеря, начнетъ писать заявленiя, опроверженiя, покаянiя. Мало ли какiя группировки существуютъ въ ГПУ? Мало ли кто можетъ другъ друга подсиживать? Отъ романиста проще отдeлаться совсeмъ: мавръ сдeлалъ свое дeло и мавръ можетъ отправляться ко всeмъ чертямъ. Документъ остается, и опровергать его уже некому. {32} Можетъ быть, меня оставили жить оттого, что ГПУ не удалось создать крупное дeло? Можетъ быть, -- благодаря признанiю совeтской Россiи Америкой? Кто его знаетъ -- отчего.