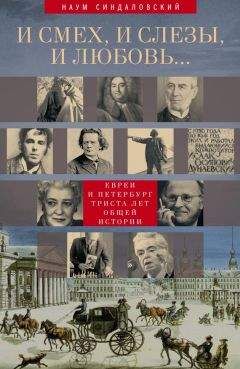Я уже не однажды подчеркивал и аргументировал это образцами городского петербургского фольклора, что петербуржец – это и национальность, и звание, и профессия. В народной драме «Шайка разбойников», записанной фольклористами в далекой Пермской области, один из ее героев – Доктор – поет песню:
Я не русский, не французский,
Сам я доктор петербургский.
Лечу на славу,
Хоть Фому, хоть Савву… и т. д.
Факт этот для фольклора настолько очевиден, что он, фольклор, его даже не доказывает и не объясняет. Фольклору вообще не свойствен ни публицистический азарт, ни дидактическое занудство. Фольклор просто констатирует. Да, господа патриоты: «Псковский да витебский – народ самый питерский». А ленинградцы? На этот счет в богатейшем арсенале петербургского фольклора есть анекдот:
– Где можно встретить коренного ленинградца?
– В бане и в коммунальной квартире.
Этот анекдот, надо сказать, не очень характерен для петербургского фольклора в целом. В нем ощущается весьма заметный привкус раздражения. Для фольклора более типична недавно появившаяся формула, исключительно точная, хотя и не окончательно отшлифованная: «Санкт-Петербург населен ленинградцами в той же мере, в какой Ленинград был населен петербуржцами».
Улица Веротерпимости, или
Фольклор многоязычного Петербурга
Для Петербурга понятие «многоязычный» никогда не было ни идеологической пропагандистской формулой, ни расхожим литературным штампом. Петербург действительно с самого рождения был городом многонациональным. Первыми его строителями, наряду с солдатами армии генерал-адмирала Апраксина, были финны, издавна населявшие Приневскую низменность. Первым архитектором был швейцарец Доменико Трезини. А первыми жителями становились так называемые работные люди или «переведенцы» – крестьяне и мастеровые, согнанные на строительство новой столицы из всех губерний многонациональной России.
Прорубив «Окно в Европу» для россиян, Петр Великий одновременно широко распахнул двери России для европейцев. В Петербург буквально хлынул поток ремесленников и торговцев, корабелов и волонтеров, кондитеров и строителей разных национальностей. Едва ли не с первых дней своего существования Петербург становится многоязычным и веротерпимым. Молитвенные дома различных вероисповеданий возводятся в буквальной близости к царскому дворцу и, что главное, рядом друг с другом. На Невском проспекте до сих пор в непосредственном соседстве равноправно красуются Голландская церковь, костел Святой Екатерины, Армянская церковь, Лютеранская церковь, православный Казанский собор. В начале XIX века некий француз предлагал даже изменить название Невского проспекта на проспект Веротерпимости. Городом веротерпимости, видя в этом одно из главных отличий его от других городов мира, называл Петербург повидавший многие страны Александр Дюма.
Конечно, среди тех, кто рискнул попытать счастья на бескрайних и чуть ли не безжизненных просторах России были и неисправимые романтики, и отъявленные негодяи, и отчаянные авантюристы, и просто преступники, скрывавшиеся от своих правительств. Но абсолютное большинство этих иностранцев, без сомнения, были глубоко порядочные, добросовестные и честные работники и солдаты, политики и учителя, чиновники и актеры – все те, кто, став петербуржцами в первом поколении, составили честь и славу своего города.
Петербург гордился своей многонациональностью. На масленичных и пасхальных праздниках на Адмиралтейском лугу или Марсовом поле балаганные деды, неторопливо раскручивая бумажную ленту потешной панорамы с изображением различных городов, бойко слагали стихотворные строки:
А это город Питер,
Которому еврей нос вытер.
Это город русский,
Хохол у него французский,
Рост молодецкий,
Только дух немецкий!
Да это ничего – проветрится.
Ему вторил другой балаганный затейник с накладной бородой и хитроватой улыбкой:
…Черной речкой немцы завладели,
В Павловске евреи засели,
А с другой стороны чухонские иностранцы –
Господа финляндцы…
Отсутствие (или незначительное присутствие) в приведенных текстах оценочных интонаций не должно вводить в заблуждение. Они еще будут. Мы с ними встретимся. Достаточно вспомнить легенду о заговоре иностранцев, в результате которого один иностранец – голландский посланник Геккерн – организовал убийство Пушкина, другой – француз Дантес – смертельно ранил поэта, третий – немец Арендт – не вылечил его, четвертый – Данзас – был секундантом на этой злосчастной дуэли и не предотвратил ее; или погромный антинемецкий шабаш ура-патриотов на улицах Петрограда в августе 1914 года; или издевательскую частушку в пору высшего расцвета государственного антисемитизма, вылившегося в пресловутое «дело врачей»: «В кинотеатре „Колизей“, что ни зритель, то еврей», – достаточно вспомнить все это, чтобы понять, что не все было благополучно в городе Санкт-Петербурге. Однако современный фольклор, коллективными авторами которого стали потомки тех, первых, строителей города, свой приговор вынес:
Когда б не инородец Фальконе,
И Петр не оказался б на коне.
Более того. Когда в 1990 году редакции московских журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник» решили провести в Ленинграде так называемые «Российские встречи» с явно выраженным националистическим душком, городской фольклор тут же окрестил эту акцию «Расистскими встречами».
Но вернемся в XVIII век. К середине столетия из 75 тысяч жителей столицы иностранцы составляли 7,5 %. Селились, как правило, кучно – городскими слободами и пригородными колониями, строго соблюдая национальный принцип. Так, например, в районе Дворцовой площади находилась Немецкая слобода с центральной Немецкой улицей, позже переименованной в Миллионную, на Васильевском острове – Французская слобода. Среди жителей столицы были финны, поляки, шведы, греки, татары и представители многих других народов. Когда в 1712 году из Москвы в Петербург наконец переехали все ближайшие родственники Петра I – вдовствующие царицы, сестра Наталья Алексеевна, сын Алексей Петрович, – то все они, включая многочисленных приближенных и огромную дворню, поселились вблизи Литейного двора, в районе нынешней Шпалерной улицы. В отличие от иностранных слобод, всю эту территорию вплоть до Смольного двора в народе прозвали «Русской слободой».
Вопреки расхожему мнению, ведущему свое начало от блестящей пушкинской метафоры «на берегу пустынных волн», Петербург вырос далеко не на пустом месте. Только в границах исторического центра города существовало около сорока различных поселений. Некоторые из них еще до шведской оккупации этих земель принадлежали Новгороду и носили русские названия: Спасское, Одинцово, Волково, Максимово. Однако большинство этих поселений были финскими. До сих пор в топонимике многих петербургских районов отчетливо слышатся финские корни: Купчино, Парголово, Автово, Шушары…
Вблизи упомянутой Немецкой слободы, от Мойки в сторону современной Дворцовой площади, в начале XVIII века протянулась еще одна – финская – слобода, из-за чего всю эту местность в народе называли «Финскими шхерами». Многие финны проживали на далекой Выборгской стороне. Они старательно подчеркивали свою самостоятельность и автономность, и даже Петербург называли по-своему – Пиетари.
Если с огромной долей условности называть финнов иностранцами, то именно эти иностранцы первыми оставили в памяти поколений фольклорную реакцию на неожиданное появление в устье Невы такого крупного города. Известными в то время строительными способами город построить было невозможно. Он бы просто утонул в болоте. Одна из красивейших финских легенд рассказывает, что Петербург на пучине возводил богатырь. Построил первый дом своего города – болото его поглотило. Построил второй дом – та же судьба. Богатырь не унывает. Он строит третий дом, но и третий дом съедает безжалостное болото. Тогда, утверждает легенда, богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, в черных больших глазах загорелись упрямые огоньки. Долго думал богатырь и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь и построил на ней сразу весь город. Затем осторожно опустил его на болото. Съесть целый город болото не могло, оно должно было покориться. И город Петра остался цел.
Авторитет трудолюбивых и добросовестных финских крестьян в Петербурге был настолько высок, что среди русских молочниц сложилась традиция произносить «молоко», «масло», «сливки» на финский манер, подчеркивая тем самым высокое качество своего товара. А широко распространенный в Петербурге XIX века образ девушки-молочницы с Охты – был запечатлен Пушкиным в «Евгении Онегине»: «С кувшином охтенка спешит,/Под ней снег утренний хрустит». «Охтенка-молочница» – такое поэтическое фольклорное прозвище девушек-разносчиц молока с Охты – навсегда осталось в истории Петербурга.