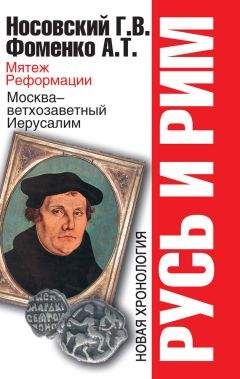Если в жизни Лютера и была серьезная душевная травма, то не младенческая, а юношеская — пережитая на студенческой скамье. Трактаты юристов сделали его больным, излечение же пришло лишь семь лет спустя, в ходе самостоятельного творческого толкования другой книги — Библии. Летом 1505 года Лютер еще не мог справиться с «проблемным вызовом римского права» и, убегая от него, дошел до идеи полного разрыва с миром.
Некоторые историки полагают, будто активное внедрение римского права в курсы позднесредневековых немецких университетов отвечало развитию буржуазного хозяйственного уклада и потребности в юридическом оформлении денежно-меновых отношений (сделок, кредитов, договоров и т. д.). Суждение это справедливо, но односторонне. Интерес к римскому праву в Юстиниановом его варианте был связан и с феодально-крепостническими вожделениями, подстегнутыми развитием немецкого рынка.
Кодекс Юстиниана (свод гражданских законов, санкционированный в V веке) имел сложное историческое строение. Он включал в себя и такие статьи, которые появились еще в республиканском Риме (например, о гражданских и частновладельческих правах), и такие, которые сложились уже в эпоху империи. Здесь можно было найти достаточно разработанные рекомендации относительно того, как закрепощать свободных крестьян с помощью кабальных займов; как юридически опротестовывать привилегии, ранее предоставленные городским и сельским общинам; как укреплять вассальную зависимость мелких феодалов от крупного, приписывая ему полномочия верховного властителя (принцепса). Это-то позднейшее, имперское содержание Юстинианова кодекса в первую очередь привлекало внимание титулованных юристов XVI века. Опираясь на авторитет кодекса, они помогали немецким князьям узаконивать их крепостнические и абсолютистские притязания.
Готовиться в юристы значило в начале XVI века определять себя в образованные княжеские холопы, которые строят казуистические ловушки для низших сословий. В студенте-юристе подавлялись все естественные задатки правосознания и независимого суждения о справедливости. Неудивительно, что из среды «римских юристов» не вышло ни заметных представителей немецкого гуманизма, ни влиятельных деятелей Реформации. Самые жестокосердные господа не вызывали у простолюдина такой ненависти, как титулованные княжеские судьи. В годы Крестьянской войны диплом доктора юриспруденции, которого Ганс Людер так жаждал для своего одаренного сына, сделался лучшим аттестатом для виселицы.
Демократическая натура Лютера-реформатора, может быть, ни в чем не выразилась так недвусмысленно, как в брезгливой ненависти к «римским юристам». В сочинениях двадцатых годов он ставил их на одну доску с «кровососами-ростовщиками», именовал «канцелярскими убийцами», «обезьянами» и «потаскухами».
У Лютера-студента, конечно, еще не было этого сознательного отношения к профессии средневекового «законника». Юриспруденция вызывала тоску и скуку. Душа не лежала к этому занятию, почтенный и серьезный характер которого казался несомненным лютеровскому окружению. Есть все основания предполагать, что в июньское посещение мансфельдского дома двадцатидвухлетний Мартин просто жаловался отцу на свою непригодность к весьма достойной профессии. Ничего, кроме горького «не способен», «не призван», он сказать не мог и скорее всего получил от отца строгий наказ «усердствовать» и «не валять дурака».
Лютер уступил, но конфликт между его бюргерской натурой и княжеским, отечески-деспотическим правом не был преодолен. Чем усерднее Мартин работал, тем больше отчаивался в своих силах. Им овладело ощущение какой-то всесторонней неполноценности. Ни одно дело не спорилось, ни одна мирская проблема не казалась больше привлекательной.
Лютер вспоминал позднее, что «проводил свои дни в печали» и испытывал приступы tentatio tristitiae — страха перед внезапной смертью. Он все чаще задумывался теперь об изъянах семейного воспитания. Перед ним вырисовывался образ родителя-тирана, который сделал его робким и неприспособленным для мира. Вместе с этой методично распаляемой обидой росло дерзкое стремление «выбить клин клином».
От него требуют школярского прилежания и аскетизма — он будет настоящим аскетом. От него ждут смирения и покорности перед ректорами, высшими чиновниками, господами, которым скоро придется служить, — он превратит смирение и покорность в прямой обет перед богом.
В Лютере зреет мысль о монашеском постриге, о рабстве у небесного господина, который строже и взыскательнее отца, но не страдает его бесчувственностью, ограниченностью и упрямством.
Немалую роль в формировании отчаянного решения Лютера сыграла университетская оккамистская философия, развивавшая своего рода героическую версию монашества.
Как ни эклектичен был эрфуртский оккамизм, он последовательно доказывал, что монастырь — это самое благородное жизненное призвание. Монашеская аскеза, учили в Эрфурте, есть высшая форма эффективности и целеустремленности. Человек во всем ограничен, но не в умении услужить богу, обуздывая свои склонности, страсти и своеволие. На поприще аскетизма, учили оккамисты, он истинный чудодей, для которого всевышний сдвигает горы. Нетрудно представить себе, как сильно должны были действовать подобные посулы на горячие молодые сердца.
Знаменательно, однако, что и они не вполне убедили Мартина. Юноша все сомневался, все горевал о покидаемом мире. Чтобы войти в ворота монастыря, ему требовался толчок извне, потрясение, стечение обстоятельств.
* * *
2 июля 1505 года Лютер пешком отправился в Мансфельд — по-видимому, для того, чтобы еще раз поговорить с отцом о своей судьбе. Разговору этому не суждено было состояться. Недалеко от Эрфурта, у селения Штоттернгейм, Мартина застигла гроза. Столбы пыли поднялись с полей, небо полыхало. Одна из молний ударила за спиной юноши так близко, что воздушная волна повергла его на землю. Мартин почувствовал, как он выражался позднее, «чудовищный страх перед внезапной смертью» и взмолился: «Помоги, святая Анна, я хочу стать монахом».
В лютеранской религиозной литературе широко распространена легенда о «штоттернгеймском озарении» Мартина, об осенившем его «небесном огне». Реформатор сам дал для нее повод, когда впоследствии в полемических целях именовал себя человеком, который «был призван богом через грозу». Между тем в предисловии к сочинению «О монашеском обете» Лютер признается, что «роковое событие» переживалось совсем иначе. Он аттестует себя как человека, «испуганного небом» и принявшего монашеский постриг «как бы не по своей воле».
Мы уже знаем, что Мартин с детства привык видеть в сомнениях нечто недостойное, нечистое, родственное разрушительным природным стихиям. Надвигавшаяся гроза скорее всего напомнила ему о его собственном душевном смятении — о постыдно долгих колебаниях между юриспруденцией и монастырем. Мартина охватил страх перед небесной карой за нерешительность. Повергнутый на землю, он объявил, что сделал выбор и знает свое подлинное желание («я хочу быть монахом»). Вот, собственно, все, что произошло тогда.
Когда гроза утихла, Мартину казалось, что судьба его решена и идти в Мансфельд незачем. Однако, вернувшись в Эрфурт, он вновь впал в сомнения. Лютер вовсе не чувствовал себя «озаренным»: в течение двух недель он обсуждал с друзьями и знакомыми, как же ему следует поступить.
В середине июля Мартин объявил университетскому начальству о своем решении стать монахом. Думается, что в конце концов он отнесся к словам, сказанным во время грозы, просто как к брошенному жребию. Лютер распродал все свои книги, кроме Вергилия и Плавта, и 16 июля устроил прощальную вечеринку для друзей в скромной магистерской каморке. Утром следующего дня они проводили его к воротам августинского Черного монастыря. «Сегодня вы видите меня в последний раз» — таков был основной смысл речей, которые он говорил в слезах. Мартин был убежден, что навсегда покидает мир.
По действовавшему в августинском монастыре уставу новообращающийся не обязан был испрашивать благословения отца на вступление в орден. Однако для Лютера было внутренне невозможно совершить подобный шаг, не советуясь с родителями. Еще до 17 июля он сообщил в Мансфельд о своем намерении. Ответ, который вскоре был получен, превзошел самые худшие опасения. Отец пришел в бешенство. Он не только вновь называл Мартина на «ты», но и грозил ему отказом от всякого родительского благоволения. Другие родственники также говорили, что отныне ничего не желают о нем знать.
Как мы уже отметили, в категорическом протесте Ганса против монашества Мартина неправомерно было бы видеть какие-либо антиклерикальные устремления. Им двигали сугубо житейские мотивы. Во-первых, выбор Мартина зачеркивал мечту отца о сыне-бургомистре, княжеском служащем, а возможно, и дворянине. Во-вторых, целибат (обет безбрачия) исключал, чтобы род Ганса продолжился через самого одаренного из его детей. В-третьих, монастыри в начале XVI века пользовались дурной славой, как рассадники лени, корыстолюбия и распутства. Этого было достаточно, чтобы крутой и решительный Ганс Людер пригрозил Мартину полным разрывом с родней.