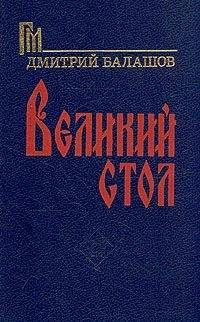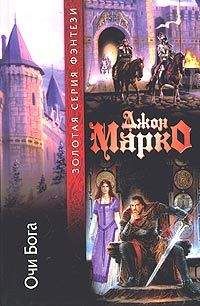Слукавил Акинф Великой самую малость. Побывал-таки у Юрия. Жаль было вотчин переяславских своих. Да не дал ему Юрий первого места среди московских бояр, и еще припомнили оба, хоть говорки о том и не составилось, что не кто иной, а сам Акинф Великой три месяца назад по слову Андрееву полки собирал на Юрия, дабы силой отбивать Переяславль. Оно бы могло и в честь пойти, ну а поворотилось инако.
Начинался четырнадцатый век. Собственно, он еще не начался, еще правил в Орде Тохта, человек тринадцатого столетия, еще Литва, кипящая грозною силой, не вылилась опустошительным потоком на земли Смоленска, еще стояла в обманчивом величии Галицко-Волынская Русь, поднятая властной рукой Даниила до уровня первых королевств Европы, еще плыл Акинф Великой с дружиной и холопами в стольную Тверь…
Столетия иногда начинаются раньше сроков, отмеченных Хроносом, иногда запаздывают. Так, девятнадцатый век – подобно подтачиваемому тихой облачной весной льду – дожил до второго десятилетия двадцатого и тут с грохотом низринулся в небытие. Век восемнадцатый начался несколько раньше исторических сроков, семнадцатый – позже. Отчаянные усилия Годунова задержали на несколько лет неизбежное крушение самодержавия последних Рюриковичей, созидавшегося все предыдущее шестнадцатое столетие. Пятнадцатый век сломался почти на рубеже времени, с осуждением еретиков, победою иосифлян над нестяжателями и смертью Ивана Третьего. Граница четырнадцатого и пятнадцатого веков размыта, но не будет ошибкою сказать, что четырнадцатый век – грозовой и величественный, на гребне своем поднявший эпическую сагу Куликова поля, век великих, светлых и страшных страстей, век творимых легенд и начала народов, – что век этот кончился раньше летописного времени, возможно даже со смертью Сергия Радонежского. И начался позже, быть может, даже не теперь, но в 1304 году, а десятилетие спустя, с победою мусульман ордынских, подобно тому, как и век тринадцатый проявил себя не сразу, и даже после погрома Киева, и даже после Липицы, и даже после Калки, до самого похода Батыева, всё еще думали, всё еще казалось многим, что ничто не изменилось, что всё продолжается и продолжается прежнее…
Дивно, впрочем, не то, что столетия запаздывают или начинаются раньше, дивно, что все-таки история меняется в ритме столетий. Или уж так кажется нам? Или столь могущественно хронологическое деление времени, что мы и события прошлого толкуем и располагаем невольно по тем же неторопливым столетним рубежам?
Начинался четырнадцатый век. Он еще не начался в делах, не означился вполне. Все было еще как хрупкий весенний лед, еще не сдвинутый, не изломанный пенистым ледоходом. Но и все уже было готово для событий иных и славы иной, чем прежняя.
Боярин, в силе и славе плывший по Волге из Городца в Тверь, не знал этого всего и потому был обречен.
Акинф Великий был муж простого здравого смысла и животных (ж и в о т н ы х от слова «живот» – жизнь) похотей. Он не думал о судьбах Руси, не задумывался о Боге, полагая, что о Боге достаточно мыслят попы, а совесть порядком-таки путал с хитростью. Для него свято было одно: свое добро, земля, волости. Но волости были в разных местах, даже в разных княжествах. Иное, что в Переяславле, и потеряно до поры. А воротить свое добро он хотел крепко. И потому приходилось думать о всей Руси, о едином князе русском. Андрея Городецкого он понимал. Андрей был жаден и завистлив. Михайлы Акинф побаивался, чуял – грабить не даст! Но уже и в нем самом что-то переменялось от жадных молодых лет. Уже не так хотелось приобретать, хотелось уберечь нажитое. И уже прикидывал Акинф, как лучше начнет споспешествовать он князь Михайле. Что можно, чего нельзя при новом господине, что одобрит и чего не простит тверской князь. Уже и к себе приваживал людей Акинф, всякого случая ради. Андрея Кобылу, сына Жеребцова, отрока, чуть ли не в сыны принял. Что там створилось при дедах! Признание отца, покойного Гаврилы Олексича, гвоздем сидело в нем, упрятанное в тайное тайных. Первое, что почуял Акинф, услышав весть об убийстве Ивана Жеребца в Костроме, была тихая радость. То все казалось: а вдруг проведает Иван? И как тогда обернет к нему, сыну отцеубийцы? А теперь Иван плавает в луже своей крови… а теперь унесли… а теперича и схоронили давно! Ныне стало мочно неложно полюбить Андрея Кобылу, сына Жеребцова. Зато и полюбил, что уже не знает отрок, как там и что было между дедами. И стало мочно приветить, помочь, поддержать, и тем вовсе закрыть грех отцов, грех тайный, на духу и то не сказанный. Холопья? И холопья того не знали! Да и то сказать: теперь поддержи Андрея Кобылу, пока юн, доколе не осильнел, опосле не забудет! А у князь Михайлы чем боле будет своих, Акинфовых, тем боле чести ему, Акинфу! И сам князь того пуще залюбит Акинфа Великого! Так-то! А переяславские вотчины Михаило воротит ему. Не воротит – сам возьму! – пообещал Акинф. – Дмитрия-князя вышибли из Переяславля, неуж этого, Юрия, рыжего, не вышибем? Жаль, конечно, Андрей Саныч не успел воротить город. Куды б ноне веселей стало!
С теми мыслями плыл Акинф в Тверь. Сидел в расписном широком паузке, под шатром с откинутыми полами, в тени, в холодке. Сидел, озирая зеленые привольные берега. Лодьи шли медленно, вспарывая бегучую воду, приходилось выгребать противу течения. Пахло мужичьим духом от горячих распаренных гребцов, запахом здоровых немытых мужских тел, запахом соленого пота, отрыжками лука и редьки. Пахло знакомо и привычно. Век был этот дух! В молодечных, в людских, в шатрах, в сече, бок о бок с дружиною, или зимой, когда, промороженный до самых костей, влезаешь в избу, набитую ратными, и так шибанет в нос человечьим смердьим теплом! И тотчас от душного запаха отпустит тревога: чуешь, что день пережит и ты дома, в избе, со своими, и эти крепко пахнущие мужики не выдадут, и, валясь в овчины, в гущу тел, носом чуток к порогу, чтоб тянуло свежцой, засыпаешь почти враз, без опасу уже, меж тем как очередные сторожи пролезают к выходу, спотыкаясь о чьи-то ноги и уважительно обходя его, боярина, – не наступить бы невзначай… Всегда был этот горячий и густой мужичий дух и значил: все хорошо. Дружина при деле, и сам при дружине. И сейчас, скоро, – чуял – опять нужны будут ему люди для дела, мужского, горячего, с потом и кровью творимого, дела войны, драки, боя, битвы за власть и добро. А какое добро безо власти?! Пото и люди надобны. Кто людьми нужен, тот и сам сирота! Акинф был всегда людьми богат. Богат смердами, холопами, челядью, дружиной. Детьми не обижен. Оба молодца – что Иван, что Федька – поглядеть любо! Дочери – одна в одну. Ни статью, ни смыслом не обижены. Таких ярок, да с добрым приданым, хошь и князю иному впору! Брат Морхиня при нем неотступно, племяш, Сашко, тоже под его рукой ходит. И зятя доброго Клавдя нынче в дом привела! Ничем не обижен Акинф, ничем не заботен. Весел Акинф и вдыхает радостно горячий запах мужицкого пота, запах смолы и дегтя, свежий запах воды и далекие запахи бора, что волнами, вдруг, накатывают на лодью, с роями мошек, летящих от берегов в горячем лесном воздухе прямо на стрежень реки и падающих в воду, на корм прожорливому рыбьему племени. «Как и у нас! – посмеиваясь, думает Акинф. – Который которого преже сожрет!»
Акинф спешит. Князь Михайло днями ладил в Орду, к хану. А без его как? Не стало бы замятни! Надоть доправить в Тверь со всема, с дружиною.
За зелеными излуками берегов близилась Кострома. Вдали запоказывалась, ныряя, лодка, черная на синей, дробящейся серебром воде. Скоро лодка приблизилась. Человек, стоя, кричал им, махал рукою. Акинф, вглядевшись, признал Касьяна, своего торгового холопа, что сидел в Акинфовой лавке на Костроме. Челнок подтянули багром, и тотчас стремительная сила воды вытянула его повдоль паузка, прижав к набоям. Касьян, подтянутый десятком мускулистых рук, вскочив на дощатый помост, прежде поклонился боярину и, когда Акинф махнул рукой, отстраняя прочих, молвил громко:
– Хоромы готовы! – А тихо добавил уже одному боярину: – Московляне на Костроме!
– Юрий? – выдохнул Акинф.
– Борис, – возразил Касьян.
– Брата послал! Та-а-ак, – протянул Акинф, – ну что ж! У низовых причалов пристанем, пожалуй, особо-то себя не казать!
Касьян меж тем сказывал прочие вести: и про князя Михайлу, что уже отплыл в Орду, и про прежний судовой караван, загодя отправленный Акинфом. Кончив, поглядел в глаза Акинфу. Тот озирал посыльного, любуясь. Отмолвил:
– Добрую весть принес ты мне, Касьян! Подь в чулан, отдохни чуток, охолонь. Вона, руки, видать, стер веслами-то!
Лодьи шли одна за другою, все так же натужно вспарывая воду, и уже запоказывалось, запосветливало на зеленом светлыми точками – россыпями застойного жилья, хором и анбаров – верной приметою большого торгового города.
– Борис, значит, на Костроме! – сказал Акинф вслух и усмехнулся, сощурясь.