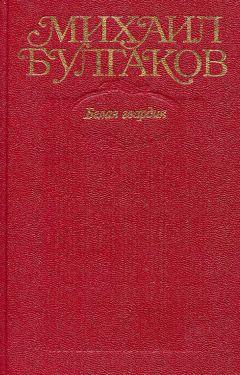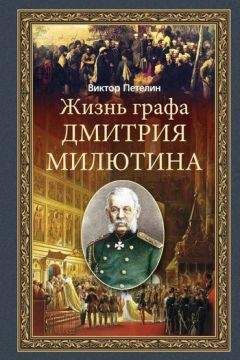И.Н. Мышкин, пытавшийся в 1875 году освободить Чернышевского из Вилюйска, был там арестован, оказал вооруженное сопротивление, бежал, снова был арестован — словом, теперь он сам посчитал, что терять ему уже нечего. Он-то и решился выступить снова на всеобщее благо.
Мышкин «показал себя замечательным оратором, хотя /…/ он был только талантливым исполнителем роли, так как речь не была экспромтом, а составлена для него, если не ошибаюсь, Сажиным»[621] — вспоминал Лев Тихомиров, который и стал мозгом и душой кампании протестов подсудимых, с этого времени признанным лидером революционной партии.
Тихомиров инструктировал почти каждого выступавшего в суде, а затем выслушивал их отчеты — сообщает уже цитированный С.Л. Чудновский[622] — тоже подсудимый на этом процессе. Сношения же между камерами (разговоры через окна, перестукивание, передача записок) были поставлены в Доме предварительного заключения лучше некуда.
Явный страх суда перед двумя сотнями юнцов и девиц, заведомая нелепость обвинения в организации заговора большинству из них, неспособность следствия и прокуратуры его обосновать, а суда — объективно разобрать, а главное — сам выбор обекта для приложения грозных карающих сил государства в тот критический момент, когда оно само должно было бы напрягать все свои силы и силы общества в нешуточной борьбе с внешним врагом — все это совершенно немыслимым образом подрывало престиж власти — и не только в глазах ее заведомых недоброжелателей.
К.П. Победоносцев, которого никак не заподозришь в сочувствии к революционерам, писал к своему воспитаннику цесаревичу Александру Александровичу, находившемуся в действующей армии, такие письма, смысл и тон которых совершенно очевиден из ответа будущего Александра III, отправленного 31 октября 1877 года:
«Благодарю Вас, любезнейший Константин Петрович, за Ваши длинные и интересные письма, которые меня очень интересуют, так как, кроме газет, мы ничего не получаем из России, а в частных письмах не все решаются передавать правду.
То, что вы пишете по поводу политического процесса, который теперь, к несчастью, уже начат в Петербурге, просто возмутительно; и нужно же быть таким ослом как Пален[623], чтобы поднять всю эту кашу теперь.
Я все еще надеюсь, что государь так или иначе, но прикажет остановить это дело».[624]
Но до мнения царя ничего подобного, очевидно, не доносили, и никто в его окружении, включая наследника престола, не решился обратить внимание царя на происходящий нонсенс. Весь расклад мнений в высшем эшелоне власти, совершенно отчетливо выявившихся в последующие месяцы, показывает, что дело тут было не в «осле» К.И. Палене, а в силе заведомо более могущественной, чем какой-то наследник престола или какой-то Победоносцев, которые пока еще не стали соответственно царем и его могущественнейшим министром. Все дело было в Трепове, сладу с которым не было тогда ни у кого.
Поэтому на Балканах и на Кавказе продолжалась жесточайшая война, а в столице — нелепейший политический процесс.
Перелом на фронте произошел в ноябре. Сначала пал Карс, осаждаемый русскими. Там прославился наш будущий герой генерал М.Т. Лорис-Меликов.
Но и после этого, 7 ноября, Д.А. Милютин писал в дневнике: «получены и неутешительные известия о восстании в Южном Дагестане, где оно приняло даже более значительные размеры, чем в других частях края. Мятеж распространился и на Закатальский округ. Остается надеяться не столько на укрощение восставших оружием, сколько на нравственное влияние, которое должны произвести в крае наши успехи над турками. Желательно, чтобы на сей раз по усмирении мятежа не сделали новой ошибки и не упустили случая окончательно обезоружить горцев».[625]
К счастью для русских, к концу ноября в Плевне кончилось продовольствие, и Осман-паша после неудачной попытки прорыва сдался с 43 тысячами войск. Путь через Балканы для русских войск был открыт.
Александр II решился выехать в Россию, где он отсутствовал с весны, — уже с надеждой, что будет встречен, как победитель.
9 декабря Катков в «Московских ведомостях» призвал к объединению нации.[626]
В середине декабря началось движение русских войск через Балканы к Константинополю.
Но императора в столице ждали с очень разными настроениями: «когда Александр II после взятия Плевны возвращался с театра войны, в Петербургском университете по какому-то поводу происходили студенческие волнения, и профессор государственного права [А.Д.] Градовский советовал студентам успокоиться, ибо, — сказал он, — говорят, государь возвращается с войны в благодушном настроении и можно ожидать, что он даст конституцию».[627]
Тогда же один из подсудимых на процессе 193-х, А.И. Ливанов, писал в частном письме: «мы боремся теперь за свободу славян и против произвола турецкого правительства, суда и администрации. А между тем, что же у нас творится дома: чем наш домашний произвол и вообще все наши порядки отличаются от турецких? Сами находимся в рабстве, а ведем войну за освобождение. Смешно, право. /…/
В Питере /…/ почти все убеждены, что настоящий порядок вещей не может долго продолжаться /…/. И изменение это будет не насильственное, а, по крайней мере, по-видимому, добровольное со стороны правительства».[628]
Ничего подобного не произошло. Не произошло и прекращения процесса 193-х, хотя вполне уместно было бы проявить царскую милость и великодушно помиловать и простить подсудимых — во имя того же объединения нации. Согласимся, однако, что после почти двух месяцев судебных заседаний (до первых дней появления царя в столице) это было бы совсем не просто сформулировать и обосновать: падение престижа власти в целом и суда в частности было уже трудно приостановить, но легко усилить. Вероятно поэтому процесс и продолжался.
Но в его течении наметились определенные сдвиги. Суд не отказался от идеи представить подсудимых, как членов единого преступного сообщества, но водораздел отношения к обвиняемым определился теперь именно критерием: принадлежит ли конкретное лицо к этому сообществу или нет.
Разбор дела происходил по отдельным группам[629] обвиняемых (непонятно, повторяем, зачем тогда всех их собирали вместе!), а результаты оказались очень выразительны: из 190 подсудимых (трое, напоминаем, умерли до вынесения приговора) 90 оказались оправданы (!!!), а 67, наоборот, признаны принадлежащими к преступному сообществу и сурово приговорены: большинство — на поселение в Сибирь, а 28 — даже на каторгу (ниже мы рассмотрим, как изменились эти приговоры после утверждения царем).
33 человека составили промежуточную группу осужденных за сущую ерунду — не только, например, «за знание и недонесение о сообществе» (Ермолаева, Фетисова) или за то, что «не довели до сведения начальства о распространении преступного содержания книг» (Павловский, Пьянков и Соколов), но и «за имение у себя книг преступного содержания без разрешения начальства» (Виноградов, Говоруха-Отрок, Кац, Аносов, Голоушев и другие).[630] Говорить при этом о каком-то мягком и гуманном завершении процесса как-то не приходится, хотя высказывались и такие мнения даже осужденными (той же Н.А. Головиной).
Предполагать, что суд сумел адекватно оценить личности обвиняемых и руководствовался именно этим, также невозможно. Оправданными, повторяем, оказались не только Желябов и Перовская, но даже и Тихомиров, который возглавлял сопротивление всех подсудимых действиям суда.
В то же время еще на стадии судебного следствия было выпущено на поруки и под залог более 60 человек,[631] а в дальнейшем суд выносил решение по каждой группе обвиняемых — и немедленно отпускал оправданных на волю — до завершения всего процесса.
Оправданные и выпущенные, ошалев от ощущения свободы, которой большинство из них было лишено в течение нескольких лет (зачем и для чего?!), тут же попадали в объятия решительно настроенных единомышленников, а главное — двух единомышленниц, Ольги Натансон и Софьи Перовской.
Тихомиров о них писал так: «Оба типа чисто женские. Ума — немного, но масса убеждения, веры, самоотверженности и воли — правда в низшей форме упорства. Уж что забредет в голову, — колом не вышибешь. При этом огромная доза консерватизма: «на чем поставлена, — на том и стоит». Ума творческого немного или даже вовсе нет, но очень много ума практического, житейского, который так нужен во всякой организации.