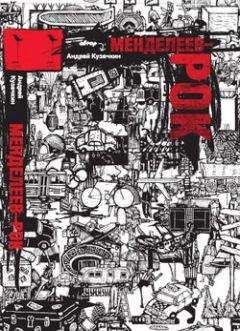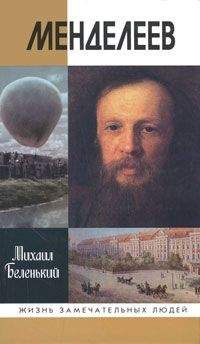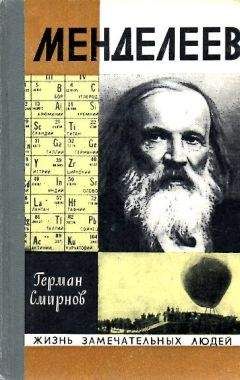В похвалу А.С. Суворину можно сказать то самое, что он сказал о своем царе Димитрии: он не самозванец. Каков он ни есть, он - подлинный человек, не сочиненный, не сочинивший сам себя, как это делают многие, даже иной раз крупные люди. Каких-каких претензий мы не насмотрелись хотя бы за последнее горестное десятилетие! Разве мы не видели старых министров, которые удачно симулировали "глубоко государственных людей", между тем вся мудрость их состояла лишь в том, чтобы, запугивая власть, усидеть на собственном кресле? Разве мы не видели генералов, притворявшихся Суворовыми, кричавших: "Пуля - дура, штык - молодец!", вследствие чего мы остались на войне без горной артиллерии, без пулеметов, с гнущимися штыками и дурацкой тактикой. Разве мы не видели хитрых журналистов, которые, пользуясь связями при Дворе, притворялись оракулами самой верной преданности, а на деле продавались и покупались, как кокотки? Разве мы не видели святошей, получавших награды и подготовлявших бунт в духовенстве? Одно время от "вождей общества" проходу не было. Радикальный попугай из "Русского богатства" шел за идола. Отставной конногвардеец открывал новую веру. Аристократы рядились в блузы, пахали землю, шили сапоги, объявляли все человеческое насмарку: Евангелие, церковь, государство, отечество, героизм. Художники издевались над поэзией, романисты проклинали любовь. Лень и слабость были воспеты как откровения Лао-цзы и Христа. Ниспровергнуто было все, что выдвинула природа: национальность, характер, пол, все элементы общежития и вкусы. При этом, выпуская одну шумную чепуху за другой, вожди не забывали призывать фотографов и сниматься так и этак, в одиночку и группами - словом, рекламировали себя из всех сил и продавали сочинения свои очень бойко. На босячестве и нищете один посредственный автор нажил миллион, другой - ограбил миллионера во славу революции. Третий воспел какие-то свои пакостные утехи с козой - и сразу был поставлен выше Пушкина. Четвертый объявил себя содомитом - и тотчас стал центром притяжения для молодежи. Пятый, шестой, десятый, сотый впали во всевозможное юродство черта ради, и вся эта бесноватая, полужидовская компания при ревностной поддержке еврейской прессы высыпала на авансцену русской жизни под именем "молодой" России, "России будущего"...
В характеристике А.С. Суворина следует отметить полнейшую неспособность его "играть роль". Как все действительно крупные люди, он жил и действовал, но никакой роли не брал на себя. Публицист - он был действительно публицист, театрал - действительно театрал, издатель действительно издатель. Тут не было ни малейшего притворства, ни игры, ни рекламы. Суворин никогда, сколько мне известно, не лез в пророки, в вожди общества, во властители дум и сердец. Ему не приходило в голову рядиться а 1а Горький, в рабочую блузу. Он не писал декретов человеческому роду, отменяя сегодня, например, национальность, завтра - половую любовь, послезавтра - собственность и т.д. Никаким декадентством в наш декадентский век Суворин не согрешил, по глубокой скромности своей беря природу, как она есть, как ее измыслил Бог. Всякий истинный талант есть восхищение перед природой, чувство действительности. Таковы были наши классики, начиная с Пушкина. Такова вся старая, органически сложившаяся Россия. Все органическое слагается безотчетно, не зная, откуда является и чем живет. Все органическое - в вечной вражде с анархическим и до сих пор Божьею милостью преодолевает хаос. Как в химии есть вещества кристаллические и аморфные, есть человеческие характеры, склонные к порядку и не склонные. Последних отродился слишком обильный урожай. Анархизм грызет нынешнее общество сверху и снизу. Босяки, никогда не знавшие культуры, естественные враги ее. Но такие же враги культуры иные утонченные аристократы, которые слишком развращены счастьем, слишком избалованы и безотчетно начинают думать, что "все позволено". На самом деле далеко не все позволено: природа понимает анархизм как разложение, разложение - как смерть. Суворин потому удостоился столь громкого общественного признания, что он по натуре своей чужд анархии. Он - человек старой, трезвой, закономерной культуры, человек, может быть, несовершенного, но все же обдуманного порядка, человек труда. Народы держатся людьми именно такого, органического склада, а не пророками и, уж во всяком случае, не лжепророками.
1909
ПАМЯТИ А.С. СУВОРИНА
"Вспоминайте обо мне, когда умру", - говорил с затаенным отчаянием А.С. Суворин, уезжая в последнюю свою поездку за границу. Ему, вероятно, уже тогда было ясно, что конец его пришел, но сильный духом, на редкость жизненный человек делал все, что требует здравый смысл: подчинялся докторам, соглашался на операции, пробовал разные чудодейственные средства, особенность которых в том, что чудо совершается над какими-то другими больными, а не над тем, которого лечат в данный момент. Смертельно жаль было "старика", как его звала вся нововременская семья. Его нельзя было не жалеть, ибо, долго зная его, нельзя было не привязаться к этому человеку столь редкой, богато одаренной души...
Возмутительно бессилие петербургской, да и заграничной, если сказать правду, науки. Возмутителен мне лично петербургский "знаменитый" профессор, который целый год лечил Суворина от катара горловых связок, не догадываясь, что это был рак. Удивительно, где глаза были у почтенной знаменитости, вернее, где был его талант, где было специальное, вроде собачьего, чутье, позволяющее иным одаренным врачам не видеть, а угадывать всякую болезнь, как бы подло она ни пряталась в глубине тканей? Пусть профессор, лечивший Суворина, был вовсе не плохой, а наилучший по своей части в Петербурге, но что же толку! Он приезжал к Суворину и вел с ним очень интересные беседы, между прочим - о новой теории механики атомов, о строении вещества... "Очень интересный человек, - передавал Суворин, - любопытные рассказывает вещи..." Интересный, видите ли, человек, способный судить об атоме, а слона-то, или рака в горле больного, не приметил...
Вообще, сказать кстати, до чего беспомощны иногда знаменитые люди! Казалось, заболей покойный Столыпин, заболей Суворин - их-то уж отстоят от смерти! Все светила медицинские к их, конечно, услугами. Но про Столыпина втихомолку все врачи теперь уже говорят, что именно "светила"-то и спровадили его на тот свет. Как только обнаружена была рана в печени, непременно нужно было делать большую операцию, то есть вскрывать печень и чистить рану. Это до такой степени "непременно", что один опытный врач, сам сделавший бесчисленное множество операций, показывал мне классический труд одного французского ученого, где названная операция указана неотложной. И если бы катастрофа случилась не в Киеве, а где-нибудь в глухой деревне, и Столыпин оказался бы на руках простого земского врача, то последний с фельдшером непременно сделали бы радикальную операцию и тем спасли бы министра. Невыгода иметь сразу нескольких знаменитых врачей та, что они боятся рисковать, боятся повредить своей установившейся репутации в случае дурного исхода, а потому слагают решение друг на друга и теряют драгоценное время. Получается картина медицинского "бездействия власти", от которого Столыпин и погиб. Боюсь, что то же случилось и с Сувориным. Один специалист и опытный профессор мне говорил, что болезнь Алексея Сергеевича слишком долго не распознали и непростительно затянули. Уже в начале ее нужно было вырезать опухоль с огромными шансами на благополучный исход. В Москве есть педагог с вырезанным горлом, продолжающий читать лекции со вставною трубкой. Может быть, и до сих пор был бы жив дорогой наш старик, если бы попал на врачей не слишком юных и не слишком уж знаменитых. Урок стареющим общественным деятелям: в ожидании тех или иных старческих заболеваний подготовляйте себе хорошего диагноста и не мудрствуйте долго, не собирайте междуведомственных комиссий, то бишь консилиумов, у своего, может быть, смертного одра...
Что для меня лично было чрезвычайно тяжко, это видеть, что А.С. Суворина мучило приближение смерти. Чересчур он был жизнеспособен и могуч, и очевидно, естественный предел его был не близок. Есть натуры равнодушные к жизни и к смерти - их не жаль терять. Есть натуры, в которых родник жизни как бы совсем высох, и им еще в молодые годы становится жизнь противной. Они без сколько-нибудь уважительного повода стреляются или вешаются. Таких почти не жаль, как не жаль совсем истощенных старостью и заживо разложившихся. Но видеть, как борется со смертью человек мощный души и еще крепкого тела - тяжело. Не умея ничем утешить, ничем утишить страдания таких больных, я обыкновенно стесняюсь навещать их. Это все равно как если к человеку в крайнем несчастии приходит человек крайне счастливый: один вид его должен быть возмутительным для страдальца. Если мне объявлен смертный приговор, то надо быть великим философом, как Сократ, чтобы беседовать с друзьями о бессмертии и просить их, чтобы увели жену с ее слезами. Если же я не философ, то отчаянию моему нет меры... Из всех посетителей в такие минуты смерть является, пожалуй, самым искренним и, может быть, единственным освободителем от пытки.