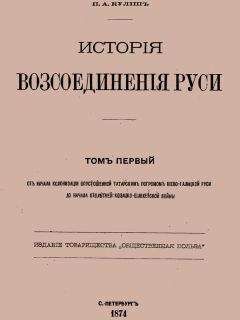Зимовавшая в Киеве шляхта Черниговского воеводства толпилась вокруг жолнеров и убиралась вместе с ними за добра ума. Ерлич рассказывает, что кто остался в Киеве до полудня, того уже не выпустили. Жолнеры от Киева направились к Хвастову, а от Хвастова к Ганчарихе и Константинову. В поле, по словам Ерлича, обнял их страх, и они, глядя один на другого, бросали возы и что у кого было, даже одежду и живность, а военные снаряды (rynslunki) начали жечь, о чем впоследствии сердечно сожалели, оставшись безо всего. В таком виде достигли Достоянова и там ждали, пока король назначит им главнокомандующего.
Поручик Вильчковский рассказывал во Львове, что это войско собралось наконец под Сокалем, требуя заслуженного жалованья, что король прислал ему не в зачет (darowizna) 60.000, но этим оно не удовлетворилось и разъехалось из-под Сокаля. Осталось на службе всего едва 1.000 человек.
Как паны ликовали после Берестечского бегства казаков, так и казаки — после Батоговского погрома панов. Но, ликуя, Хмельницкий находил нужным унижаться и оправдываться перед людьми, которых желал бы стереть с лица земли.
Король звал в Варшаву панов на чрезвычайный сейм для спасения отечества от врага, для которого не существуют никакие законы. На этом сейме булава погибшего на Батоге Калиновского была вручена племяннику Николая Потоцкого, Станиславу Потоцкому; коронным обозным, на место его сына, сделан Стефан Чернецкий; на место Пршиемского полевым писарем назначен Сопига; Лянцкоронскому дано воеводство русское, а Тишковичу, сыну Яна черниговское. Решено было — в крайнем случае, созвать посполитое рушение, а покамест набрать 50.000 наемного войска.
Хмельницкий прислал на сейм своих депутатов с оправдательными письмами. Он был тем ужаснее в своей истребительной деятельности, что беспрестанно плакался на пролитие христианской крови и обвинял представителей шляхетского народа в кровожадности. Когда, после Батоговской бойни, все панские дома покрылись трауром, он еще прибавлял им горечи своим крокодиловским плачем. Делаясь из виновного обвинителем и мешая с оправданиями угрозы, Хмельницкий являлся самым жестоким из бичей, которыми судьба карает народы за их безрассудство. Не один каменецкий гарнизон — вся Польша видела в казаках кару за содеянные панами в гордости своей преступления. Пробудилось наконец сознание правительственной немощи в сословии, присвоившем себе прерогативы царственности. Поняли наконец паны, что верховная власть, разделенная на куски и кусочки, теряет в раздельности свою цену. Но уже было поздно. Уже шляхетский народ обессилил себя своими хвалеными вольностями до того, что не мог даже карать преступников и награждать истинных слуг отечества. Множество банитов, лишенных чести, проживало благополучно в своих имениях на правах коронованных особ. Множество заслуженных воинов завидовало жидам, получавшим за деньги королевские замки в державу с приписанными к ним подданными и землями [65]. Люди, бежавшие позорно с поля битвы, непосредственно затем делались обладателями староств, а люди, отсидевшиеся от неприятеля с потерей членов, оставались в тени среди правительственной лиги.
Находясь в таком расслабленном положении, шляхетский народ, говоря вообще, сознавал себя уже народом погибшим. Он утратил чутье к правде, утратил любовь к добру и отвращение к злу. Под гнетом горя от новых несчастий, постигших каждый дом в прибавку к старым, он впал в апатию, подобную той, которая предшествует смерти, и только в апатии находил облегчение предсмертной агонии, которой суждено было быть столь продолжительною.
Хмельницкий, между тем, боялся, чтобы после Батога, как после Корсуня и Пилявцев, могучая польская жизнь не воспрянула с новою силою; чтоб утрата одних энергических людей не вызвала на сцену боевой деятельности других, — и готовился к войне. Но истощая, в чрезвычайном положении своем, последние силы казацкого народа, он старался отдалить его неизбежное столкновение с народом шляхетским. Поэтому-то покорность его справедливо называли паны волчьею (wileza pokora), и его посольство на чрезвычайный сейм в июле 1652 года было не голосом победителя, а мольбою побежденного. Он знал, с кем имеет дело в этом случае.
Король, изображая в лице своем ту многочисленную клику богачей эгоистов, на которую до конца сохранил влияние Кисель вопреки сторонникам Вишневецкого, приостановил вооружение, и, вместо того, чтобы готовить кару злодею, обещал ему свою милость: политика нравственного бессилия, практиковавшаяся в Турции. Для подкупа Хмельницкого готовностью короля к чрезвычайным пожалованиям, были отправлены Зацвилиховский (которого Хмельницкий обласкал под Збаражем) и Черный (через которого он действовал на панов после Корсунского погрома). Но пока они прибыли, виды Хмельницкого на свою безопасность переменились, и он принял королевских послов с пренебрежением. На Батогскую бойню, которая, по-видимому, изумила и огорчила его, стал он смотреть, как на выигрыш потерянного под Берестечком дела, и потребовал возврата казакам Зборовских прав. Тогда паны снова сделались воинственными, и стали готовиться к вооружениям чрезвычайным. Это было тем естественнее, что во время сейма скончался проповедник мирного торжества над казаками, Адам Кисель. С ним умерла и его примирительная политика, сделавшаяся невозможною еще до Хмельнитчины. Вместо посполитого рушения, было решено снарядить от каждых десяти ланов по одному конному и по одному пешему воину с мушкетом, наподобие гайдуков.
После Батоговского погрома, когда все в Польше поникло, точно под дыханием всесокрушающей бури, только Стефан Чернецкий не потерял присутствия духа. Он вдохновился самою великостью несчастий дорогого ему польского отечества, и уже в июне 1652 года писал из Немирова к коронному маршалу, Юрию Любомирскому, что если только Польша соберет соответственные силы и в лагерях установится повиновение (задача выше польской общественности), то он свидетельствуется Богом, что поляки могут не оставить русина и на лекарство (Bogiem swiadcze, ze na Iekarstwo Rusina moicm nie zoslawie).
В этих словах, при всей нелепости их и в нравственном и в политическом смысле, Чернецкий проявил тот сильный нерв, который совершал великие в добре и в зле дела, соединенные с польским именем. Чернецкий, любимый герой падающей и падшей Польши, для нас — герой вредоносного мщения. Он представляет в себе самый печальный результат, к которому две смешанные нации привело посягательство католической партии на духовные хлебы русские и на свободу религиозной совести русской.
Сперва междоусобная война в Польше была чисто экономическая, сословная, социальная; но паписты с одной стороны, а православники с другой — превратили ее в религиозную, а боль от нанесенных обоюдно ран сделала ее религиозною. Чем дальше забиралась Польша в лес экономических, общественных, религиозных и политических недоразумений, тем больше валилось в этом лесу дров, то есть виновных и безвинных ответчиков за недоразумения с обеих сторон. Теперь передовые люди польские, такие, как Чернецкий, — большею частью и почти исключительно люди происхождения русского, свидетельствовались Богом, иначе — давали Богу обет — не оставить русина и на лекарство, как раз в pendant с казаками, которые в своем разбойном благочестии, жаждали так вырезать ляхов, чтоб не осталось на свете и одного. Представитель Руси с худшей стороны, Хмельницкий, низвел представителей Польши с лучшей до своего уровня, — и вот мы видим знаменитого стратегика Берестечской войны казакующим с преданными ему смельчаками на поприще казацких набегов, пожогов и резни, по примеру Перебийносов, Нечаев, Морозенков.
Теперь паны воевали уже не для того, чтоб открыть себе свободный вход в отнятые у них казаками владения, а для того, чтоб отомстить непокорной им Руси, стоявшей заодно с казаками. Если прежние походы их были только разжиганием национальной вражды, то с этого времени они делались и разжиганием, и ковкою, и вечным закалом этой вражды. Судьба велела расторгнутым частям населения Речи Посполитой поссориться, если возможно, больше прежнего, чтобы никогда уже нельзя было им соединиться ни во имя панской, ни во имя казацкой республики, а разве только во имя всеобъемлющей и всепретворяющей в свою суть Российской Империи.
Этот новый период вражды открыл собою Стефан Чернецкий, шляхетский Косинский или Наливайко. Ему вверили 10.000 войска и предоставили свободу опустошать казацкие займища. Чернецкий отличался уменьем вселять в своих соратников единодушие. Он обладал искусством довести боевую шляхту до некоторого соподчинения. Он мог бы быть великим полководцем и гражданином; но его польское отечество так измельчало, что не могло уже производить великих деятелей войны и политики. Все, что ни делали со времен Чернецкого талантливые люди в Польше, не поднимало её из упадка, напротив, ускоряло крушение и последних устоев.