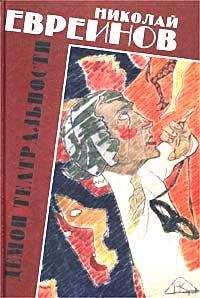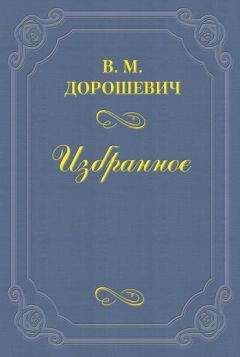Шопенгауэр (не выдержав). Виноват, мой юный друг, вы увлекаетесь! — Правда, у каждого человека есть врожденный талант путем мимики превращать свое лицо в маску, весьма точно изображающую то, чем бы он должен быть на самом деле; маска эта, выкроенная исключительно по его индивидуальности, так точно прилажена, так подходит к нему, что получается полная иллюзия. Но всякое притворство — дело рефлексии; долго и без перерыва его не выдержишь: «nemo potest personam diu ferre fictam»{759}, — говорит Сенека в книге «De dementia»{760}. Притворство, маска допустимы только тогда, когда они приносят пользу, предотвращая вред, позор и смерть. Помните, у Ариосто:
Quantunque i! simular sia le più volte
Ripreso e dia mala mente indici,
Si trova pure in molte cose e molte
Avere fatti envidenti benefici,
E danni e biasmi e morti avere tolte{761}.
В частности, ношение таких усов, как у вас, почтеннейший, — усов, имеющих, по-моему, вид полумаски, должно быть попросту запрещено полицией. Я уже не говорю о том, что как половое отличие мужчины, которое к тому же торчит посреди лица, усы крайне неприличны…
Ницше (перебивает, обращаясь к другим). Ну разве я не прав, говоря о глупости морального негодования!.. Переходить на личности с упоминанием полиции — до этого может дойти только мораль Шопенгауэра! Она уже дошла однажды до проповеди телесных наказаний за дуэли, и — дали бы только Шопенгауэру его пресловутую волю — он бы не задумался подвергнуть меня «порке по-китайски» за рыцарский шрам от поединка, который, со времен студенчества, украшает тоже — извините — середину моего лица!
Шопенгауэр. Конечно, вы бы предпочли, чтоб ваши ложные суждения остались без опровержения и без возмездия!
Ницше. Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения; это, может быть, самый странный из наших парадоксов. Вопрос в том, насколько суждение споспешествует жизни, поддерживает жизнь, {329} поддерживает вид, даже, может быть, способствует воспитанию вида; и мы решительно готовы утверждать, что самые ложные суждения (к которым относятся синтетические суждения a priori{762}) — для нас самые необходимые, что без допущения логической фикции, без сравнения действительности с чисто вымышленным миром безусловного, самому себе равного, без постоянного фальсифицирования мира посредством численности человек не мог бы жить, что отречение от ложных суждений было бы отречением от жизни, отрицанием жизни. Признать ложь за условие, от которого зависит жизнь, — это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей; и философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним этим по ту сторону добра и зла. Не забудьте, что, даже переживая что-нибудь необычайное, мы выдумываем себе большую часть переживаемого, и нас едва можно заставить смотреть на какое-нибудь событие не в качестве «изобретателей». Все это значит, что мы коренным образом и издревле привыкли ко лжи. Или, выражаясь добродетельнее и лицемернее, словом, приятнее: мы более художники, нежели это нам известно.
Оскар Уайльд. Простите, сэр, но можно подумать, что вы слишком усердно читали мою статью «Упадок лжи»{763}.
Ницше. Понятия о ней не имею.
Уайльд. Как странно! А между тем такое сходство! (Обращаясь к другим.) Судите сами, господа! разве в этой статье я не говорил, что «общество рано или поздно возвратится к своему утерянному руководителю, к образованному и пленительному лжецу», что «когда рассветет этот день или хоть заалеет его заря, как радоваться будем все мы! Факты будут считаться постыдными, Истина будет плакать над своими оковами, и Поэзия, с ее сказочным настроением, вернется в нашу страну», но что «прежде чем сбудется это, мы должны развить позабытое Искусство Лжи», так как «ложь, т. е. передача прекрасных, но неверных вещей, есть истинная цель искусства, ложь поэзии правдивее правды жизни», и «маска всегда нам скажет больше, чем самое лицо». Право же можно подумать, что мистер… Ницше (так кажется?) дал приют своей философии под кровом моего дома!
Ницше (снисходительно).
В своем мне доме жить вольней.
Я никому не подражал;
Всех осмеял учителей.
Кто сам себя не осмеял.
Это надпись над моим подъездом, сударь!
Уайльд. А я над дверью своей библиотеки написал слово «Причуда».
Ницше. Это еще до вас сделал Эмерсон{764}. По-видимому, вы влюблены в пышные слова как в пестрые шкуры и только по коврам лжи умеете ходить твердыми ногами, вы, нежные!
Евреинов (желая шуткой прекратить разногласие). Этот 53‑й, если не ошибаюсь, из посмертных афоризмов времен «Заратустры»{765} звучит для {330} русского уха как игра слов — наши школьники спрягают «я хожу по ковру, ты ходишь, пока врешь, он ходит, пока врет» и т. д. Смешно, хе‑хе, а?
Уайльд. Мне не до смеха в обществе, где идею лжи мало того что профанируют, но еще грубо обращают против ее же творца!
Ницше. А! вот уже полупризнание!..
Евреинов (примирительно). Господа, успокойтесь! Покиньте поле брани! Сделайте это сейчас так же совместно и одновременно, как в 1900 году{766}! Ведь можно было тогда подумать, что вы из дружбы не захотели пережить друг друга!
Ницше. Дружба с неизвестным?!
Уайльд. Это я-то «неизвестный»!
Лев Толстой (Леониду Андрееву). Даже я знаю этого декадента-эстета и притом с самой худшей стороны: достаточно сказать, что Оскар Уайльд избирает темою своих произведений отрицание нравственности и восхваление разврата!
Евреинов. Господа, идея приятия мира чрез Искусство, а Искусства через Ложь находилась в ваше время in pendente{767}! Этого факта достаточно в оправданье оригинальности как того, так и другого спорщика! (На ухо Уайльду.) Уступите — вы моложе! (На ухо Ницше.) Уступите — вы старше!
Ницше (тихо). À la longue, — меня мало тревожат карманные воры. И истинно не от карманных воров пришел предостерегать Заратустра. (Евреинов просит Ницше высказать подробнее свое мнение о «театре для себя», в то время как Лев Толстой и Леонид Андреев беседуют.)
Лев Толстой. И людям не стыдно спорить о том, кто из них раньше расхвалил ложь!.. Нашли добродетель, чтоб хвастаться!
Леонид Андреев. Нет, знаете ли, Лев Николаевич, я держусь того мнения, что бескорыстная любовь к вранью, например, не так уж плоха, так как она часто бывает неразвившимся зародышем того же литературного дарования!
Толстой. Полноте!
Евреинов (громко и несколько официально). Мой дорогой гость Фридрих Ницше согласился высказать свой взгляд на явление, которое я определяю как «театр для себя»! (К Ницше, с поклоном.) Прошу!
Ницше. Извольте!.. Скажу прежде всего, что я вообще преисполнен благодарности художникам сцены, так как именно художники сцены дают людям глаза и уши видеть и слышать с некоторым удовольствием то, что каждый из себя представляет, что каждый переживает, что каждый хочет: только они одни учат нас ценить героя, скрытого в каждом заурядном человеке, только они одни учат искусству смотреть на себя издали как на героя: на себя, упрощенного и преображенного, — учат искусству «поставить на сцену» себя самого. Вот уже мысль, с вершины которой я охотно встречаю вашу идею «театра для себя». В самом деле — в человеке соединены творение и творец: в человеке есть материал, обломки, излишек материала, глина, грязь, безумие, хаос; но в человеке есть также и творец, скульптор, твердость молота, божественность созерцающего и седьмой день. Что мне драма! {331} Что мне судороги ее обычных экстазов, которым удивляется чернь! Что мне все актерские фокусы-покусы жестов! Я знаю, что в театре люди честны только в массе — в качестве отдельных личностей они лгут и пред другими, и пред собою; идя в театр, оставляют самих себя дома, отказываются от права своего голоса и собственного суждения, от своего вкуса, даже от своей храбрости, которую имеют, сидя в собственных четырех стенах. Никто не приносит в театр самых тонких черт своего искусства: в театре — народ, публика, стадо, женщины, фарисеи, ревуны, демократы, ближний, со-человек, там личная совесть подпадает нивелирующему началу большинства. Как видите, в этом смысле я устроен совсем антитеатрально, совсем не так, как Вагнер, этот настоящий человек театра, актер, даровитейший мимоман из всех, когда-либо бывших, да, кроме того, еще и музыкант!.. Нет!.. кто в самом себе имеет достаточно трагедии и комедии, конечно, предпочтет не ходить в театр; или, если пойдет в виде исключения, то все, включая сюда и пьесу, и публику, и автора, будет ему его собственной трагедией и комедией, так что мало имеет для него значения, какая пьеса ставится в данный вечер. Если я правильно понимаю ваш «театр для себя», то это — аскетический театр, так как аскетический идеал, которому, по-моему, следует ваш театр, возникает из инстинкта защиты и спасения вырождающейся жизни, которая всяческими средствами ищет удержаться и борется за свое существование. Аскетический жрец — это воплотившееся желанье «быть иным», «быть в ином месте»… Не таковы ли вы, как автор «театра для себя»?