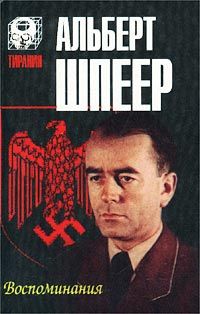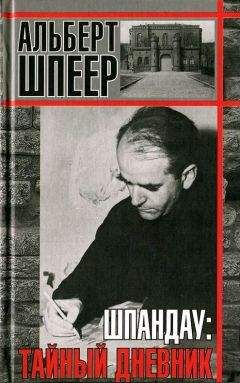Я попробовал упрочить свою позицию тем, что каждому из десяти начальников управлений придал по одному заместителю из промышленности (17). Но как раз Дорш и Заур сумели не допустить этого для своих должностей. Когда же признаков того, что под руководством Дорша в министерстве сформировалась фронда стало более, чем достаточно, я произвел 21 декабря 1943 г. своего рода «государственный переворот», назначив на должности руководителей управления по кадрам и оргуправления (18) двух моих старых надежных коллег по временам моей работы в строительстве. Им я подчинил и до того самостоятельную «организацию Тодт».
На следующий день я скинул тяжкое бремя уходящего 1943 г., с его многочисленными личными разочарованиями и интригами и отправился в самый удаленный и самый пустынный уголок подвластной нам Европы, в Северную Лапландию. Иначе, чем в 1941 г. и 1942 г., когда Гитлер запретил мне путешествие в Норвегию, Финляндию или в Россию по причине их рискованности и моей для него незаменимости, на этот раз согласие последовало немедленно.
На рассвете мой новый самолет, четырехмоторный «кондор» производства заводов Фоккевульф, с особо вместительными дополнительными бензобаками и, соответственно, очень большой дальностью полета (19), взял курс на север. Со мной летели скрипач Зигфрид Боррис и любитель-фокусник, ставший после войны знаменитостью под именем Каланга; вместо того, чтобы самому произнести речи, я хотел доставить рождественское удовольствие солдатам и рабочим «организации Тодт» на севере. С высоты бреющего полета мы разглядывали озера Финляндии, предмет моих мечтаний в годы юности, по которым моя жена и я надеялись когда-нибудь попутешествовать со складной лодкой и палаткой. Вскоре после полудня мы приземлились в ранних сумерках этого северного края на заснеженном и обозначенном керосиновыми лампами, самом примитивном аэродроме недалеко от Рованиеми.
Сразу же на следующий день мы отправились в открытой автомашине на север, покрыв расстояние в 600 километров до небольшого порта на побережье Ледовитого океана, Петсамо. Ландшафт напоминал своим однообразием вершины альпийских гор, но переливы освещения, со всеми полутонами — от желтого к красному, вызванные движением скрытого за горизонтом солнца, были неправдоподобно прекрасны. В Петсамо мы провели несколько рождественских увеселительных мероприятий для рабочих, солдат и офицеров, за которыми последовали еще вечера и в ряде других населенных пунктов. Одну ночь мы провели в блочном домике генерала, командующего фронтом на Ледовитом океане с тем, чтобы посетить передовые базы на полуострове Рыбачий, нашем самом северном и самом малогостеприимном отрезке фронта, всего в восьмидесяти километрах от Мурманска. В бравшей за душу отрешенности рассеивался мутновато зеленый свет, наискось пробивавшийся через пелену тумана и снега, едва освещавший голый, без единого деревца, мертвый ландшафт. Мы медленно пробирались на лыжах, в сопровождении генерала Хенгля, на наши передовые позиции. Мне продемонстрировали стрельбу из нашей полковой 150-миллиметровой пушки по советскому блиндажу. Впервые в жизни я присутствовал на показательных стрельбах боевыми снарядами. До этого как-то мне продемонстрировали огонь одной из тяжелых батарей на мысе Грис-нес, и хотя командир в качестве цели назвал Дувр, позднее все же разъяснил, что на самом деле он отдал приказ палить просто в море. А здесь же при прямом попадании в воздух взлетели бревна русского блиндажа. И почти мгновенно стоявший около меня ефрейтор рухнул замертво — советский снайпер попал ему в голову, точно в смотровую щель! Для меня все это было необычно, это была моя первая встреча с реальностью войны. Нашу полковую пушку я знал по демонстрации на полигоне и интересовала она меня тогда как некая техническая конструкция, а здесь я вдруг увидел, как этот инструмент, к которому относился чисто теоретически, уничтожает людей.
Во время этой своего рода инспекционной поездки я со всех сторон, от солдат и офицеров, слышал жалобы на недостаточные поставки легкого вооружения для пехоты. Особенно ощущался недостаток в легких и удобных автоматах. Солдаты отчасти выходили из нужды с помощью советских трофеев.
Упрек фронтовиков нужно было бы прямо адресовать Гитлеру. Пехотинец Первой мировой войны, он испытывал слабость к привычному карабину. Летом 1942 г. он отклонил наше предложение запустить в серию уже разработанный и опробованный автомат и настаивал, что ружье лучше отвечает задачам пехоты. Следствием его окопного опыта, как я теперь в этом убедился на практике, было то, что из-за его преклонения перед тяжелым вооружением танками мы подзапустили конструирование и производство оружия для пехоты.
Немедленно после своего возвращения я постарался исправить это упущение. Наша программа вооружения для пехоты, готовая уже в начале января, опиралась на точные расчеты потребности в нем и требований к нему, представленных Генеральным штабом сухопутных сил и командующим резервной армией. Гитлер, сам себе главный эксперт по вооружению сухопутных войск, дал добро лишь полгода спустя. Но с этого времени он не упускал случая поставить нам в упрек, если намечалось отставание от программы. За три квартала мы добились значительного роста выпуска легкого вооружения, а по автоматическому оружию (автомат-карабин-44) даже двадцатикратного рывка при, естественно, минимальном исходном уровне (20). Такого скачка мы могли бы добиться двумя годами ранее, поскольку могли без особого труда задействовать мощности, не забитые производством тяжелого вооружения.
На следующий день я осмотрел никелевый завод в Колосйокки, единственный наш поставщик никеля и, собственно, цель моего рождественского вояжа. Там громоздились горы неотправленной никелевой руды, тогда как наши транспортные средства в огромных количествах в тот момент были отвлечены на возведение электростанции с мощнейшим бетонным укрытием от бомбежек. По возвращении я перевел строительство электростанции в более низкую категорию срочности, и вывоз никелевой руды сразу же вырос. Посреди девственного леса, недалеко от озера Инар, вокруг мастерски сотворенного костра, который согревал и освещал одновременно, собрались лапландские и немецкие лесозаготовители, и Зигфрид Боррис открыл вечер знаменитой мелодией из партиты D-моль Баха. По окончании концерта мы устроили многочасовую лыжную прогулку до палаточного лагеря лапландцев. Но туристской идиллии при 30 градусах мороза, с полярным сиянием, не суждено было состояться: закрутил ветер, и обе половины палатки наполнились дымом. Я выбрался на свежий воздух и в три часа заснул в спальном мешке из оленьей шкуры. Утром я проснулся от острой боли в колене.
Через несколько дней я был уже в ставке Гитлера. По подсказке Бормана он созвал большое совещание, на котором при участии всех основных министров должна была быть принята производственная программа на 1944 г., а Заукель собирался выступить со своими жалобами на меня. Накануне я предложил Гитлеру провести узкое совещание под председательством Ламмерса и обсудить на нем те разногласия, которые мы и могли только уладить. Едва я кончил, как Гитлер грубо, ледяным голосом ответил, что он не потерпит, чтобы участников совещания ставили бы под такое давление. Он не желает выслушивать согласованные за спиной мнения и принимать решения он будет сам.
Натолкнувшись на такой отпор, я отправился с моими сотрудниками к Гиммлеру, у которого по моей просьбе уже находился генерал Кейтель (21). Я намеревался согласовать хотя бы с ними общую тактику, чтобы воспрепятствовать возобновлению заукелевских депортаций из оккупированных стран Запада. Кейтель как высший воинский начальник и Гиммлер как ответственный за полицейский контроль на всей занятой нами территории испытывали определенные опасения в виду возможного усиления партизанских движений. Они оба, как мы условились, заявят на совещании, что не располагают для новых мобилизационных акций Заукеля необходимыми исполнительными службами и что возобновление насильственной мобилизации ставит по угрозу порядок. При такой поддержке я рассчитывал окончательно покончить с депортациями и добиться более жестких мер для мобилизации наших собственных резервов, прежде всего — для вовлечения немецких женщин в производство.
Однако, по-видимому, Гитлер был подготовлен Борманом к обсуждению этого вопроса не хуже, чем Гиммлер и Кейтель — мной. Уже во время приветствий он своей холодностью и нелюбезностью дал всем участникам совещания почувствовать, что он расстроен. Знавшие его почитали при таких симптомах за благо не поднимать неотложных вопросов, ибо результат был непредсказуем. В другой раз я оставил бы даже самые важные для меня вопросы спокойненько лежать в папке и ограничился бы вещами заведомо безобидными. Но от повестки дня заседания деваться было некуда. Уже в самом начале Гитлер запальчиво оборвал меня: «Я не позволю Вам, господин Шпеер, сделать очередную попытку предвосхитить итоги совещания. Я руковожу дискуссией, и я буду после нее принимать решения. А не Вы! Запомните это!»