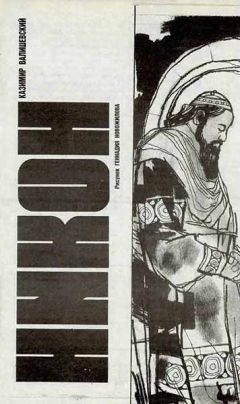Но Екатерина не только собирала коллекции; она занималась также и строительством, и можно сказать, что занималась им по преимуществу. Притом она строила исключительно для своего удовольствия, как на это указывал в 1773 году и Дюран. Мы помним, как судил принц де Линь о познаниях императрицы в области архитектуры. Но если у нее не было ни вкуса, ни чувства пропорции, то было много увлечения. Художественное чутье она заменяла пылкостью, качество – количеством. «Знайте, – писала она в 1779 году, – что строительная страсть сильнее в нас, чем когда бы то ни было, и ни одно землетрясение не разрушало столько зданий, сколько мы их возводим». Она прибавляла при этом меланхолическое размышление на немецком языке: «Строительная горячка – дьявольская вещь; она поглощает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочешь строить; это болезнь, как пьянство».
Около этого времени она выписала из Рима двух архитекторов, Джиакомо Тромбара и Джеронимо Кваренги. Она объясняла Гримму, почему ее выбор остановился именно на них: «Я хотела иметь двух итальянцев, так как у нас есть французы, которые знают слишком много и строят дома уродливые и внутри и снаружи, потому что слишком много знают». Опять ее высокомерное презрение к знанию и ее склонность к импровизации! Впрочем, это не мешало ей часто обращаться и к ученому Клериссо, который посылал ей планы дворцов в римском вкусе. Перроне составил для нее проект моста через Неву; Буржуа – план маяка для Балтийского моря. В 1765 году она заказала Вассэ залу для аудиенций в 130 футов длины и 62 ширины.
Но при всем том покровительствовала ли она вообще художникам, все равно, были ли они архитекторами, живописцами или скульпторами? Фальконе лучше было бы не спрашивать об этом, когда он вернулся из Петербурга: ответ его был бы слишком горек. Мы расскажем в другом месте, чем было его пребывание в столице России, этом городе Петра Великого и Екатерины, обязанном ему своим лучшим украшением. Мы постараемся тогда выяснить, как сложились первоначально и во что превратились впоследствии его отношения к государыне, бывшие сперва со стороны Екатерины более чем любезными и кончившиеся хуже чем равнодушием. Скажем здесь, что, лишенная совершенно чувства прекрасного, Екатерина не была способна понимать и душу артиста. Фальконе понравился ей в первую минуту самобытным и немного парадоксальным складом ума и главным образом причудливостью своего нрава; но вскоре он надоел ей и кончилось тем, что он стал ее раздражать. Он был слишком художник, на ее взгляд. А она несколько своеобразно рисовала себе роль тех людей талант, которых призывала для украшения своей столицы. Она наивно говорила в одном из своих писем к Гримму: Si il signor marchese del Grimmo volio mi fare (вместо vuol farmi) удовольствие, он будет так добр написать божественному Рейфенштейну найти для меня двух хороших архитекторов, итальянцев по происхождению и искусных по профессии, которых наняли бы на службу к ее Величеству русской императрице; по контракту на столько-то лет и отправили бы из Рима в Петербург, как пакет инструментов». Они и были для нее именно инструментами, которые употребляют, пока они годны, и выбрасывают в окно, когда они иступятся, или когда найдутся лучшие или более удобные под рукою. Так она поступила и с Фальконе. Но вернемся к ее письму к Гримму. Она продолжает: «Пусть он (Рейфенштейн) выберет людей честных и рассудительных, не таких сумасбродов, как Фальконе, и которые ходили бы по земле, а не по воздуху».
Она не хотела, чтоб они парили в вышине. «Микеланджело, – сказал справедливо один французский историк, – не остался бы и трех недель при дворе Екатерины».
И, чтобы остаться при этом дворе в течение двенадцати лет, надо было иметь незаурядную силу воли Фальконе и его искреннюю страсть к начатому им делу, в которое он вложил всю душу. Но зато, когда он уехал из Петербурга, он был разбитым человеком… Если не считать Фальконе, Екатерину окружали только посредственности из иностранных художников: Бромптон, английский живописец, ученик Менгса, Кениг, немецкий скульптор, пользовались ее милостями. Бромптон писал аллегории, восхищавшие императрицу, потому что это были аллегории политические. «Он сделал портреты двух моих внуков, и это прелестная картина: старший забавляется тем, что хочет разрубить Гордиев узел, а другой – дерзко надел себе на плечи знамя Константина». Кениг удачно вылепил бюст Потемкина. Г-жа Виже-Лебрён, приехавшая в Петербург в 1795 году, имея за собой уже европейское имя, была везде встречена с большим почетом; но Екатерина обошлась с ней холодно. Императрица находила ее общество неприятным, а картины настолько слабыми, что «только тупой человек мог бы писать таким образом», – говорила она.
А русские художники – как она относилась к ним? Искала ли она среди них самородков, поощряла ли их таланты, ценила ли их? Произвести подсчет русским знаменитостям в этой области за время царствования Екатерины нетрудно. Это был, прежде всего, Скородумов, гравер, изучавший свое искусство во Франции; в 1782 году она выписала его к себе на службу из Парижа. Один путешественник – иностранец (Фортиа де Пиль) нашел его несколько лет спустя в пустой мастерской за полировкой медной доски для жалкого рисунка, заказанного ему по случаю какого-то торжества. Скородумов объяснил итальянцу, что в Петербурге не было подмастерья, способного заменить его в этой черной работе, и очень удивлялся, что нашелся человек, который интересуется его делом: он уже примирился со своим приниженным положением. Затем скульптор Шубин, которого тот же путешественник застал в узкой студии, без моделей, без учеников и почти без заказов: он работал над бюстом какого-то адмирала, обещавшего заплатить ему за труды 100 руб., тогда как одного мрамора должно было пойти на бюст рублей на восемьдесят. Наконец, художник Лосенко. Вот что говорил о нем Фальконе:
«Этот бедный, честный юноша, униженный, голодный, мечтавший поселиться где-нибудь вне Петербурга, приходил ко мне поговорить о своих несчастьях; потом он отдался пьянству с отчаяния и был далек от того, чтобы подозревать, что ждет его после смерти: на его надгробном памятнике написано, что он был великим человеком!»
Екатерине был нужен великий художник, чтобы дополнить ее славу, и она получила его дешевой ценой. Когда Лосенко умер, она охотно присоединила его апофеоз к своему величию. Но она не сделала ничего, чтобы дать ему возможность жить. Все ее заботы об искусстве сводились в сущности к чисто показной стороне. И с этой точки зрения «божественный» Рейфенштейн, имя которого было известно всей Европе, стоил в ее глазах, конечно, дороже, нежели безвестный Лосенко, хотя оба они были только хорошими копировальщиками, а не творцами. В общем, национальное искусство обязано Екатерине только несколькими моделями Эрмитажа, послужившими для изучения и подражания русским художникам. Но, кроме этих моделей, она не дала ему ничего: даже куска хлеба.
IIIЕкатерина любила выдавать себя за покровительницу наук и ученых. В 1785 года она повторила с Палласом свой великодушный поступок по отношению к Дидро. Когда она предложила ему купить его коллекцию по естественной истории, он спросил за нее 15 000 рублей, чтоб дать их в приданое своей дочери. Но Екатерина ответила ему, что насколько он сведущ в естественной истории, настолько, мало понимает в делах, и заплатила 21 000 рублей, предоставляя ему пользоваться коллекцией до конца жизни. Но была ли то вина императрицы, что среди ученых, с которыми ей приходилось иметь дело, мы встречаем только иностранные имена: Эйлера, Палласа, Бемера, Шторха, Крафта, Миллера, Бакмейстера, Георги, Клингера? Мы должны признать, что ни в обязанностях, ни во власти великой государыни было создать из ничего местную науку и ученых, русских по происхождению и воспитанию. Она выписала раз из Германии для кадетского корпуса четырех профессоров: математики, естествознания, философии и литературы. Но когда эти господа приехали в Россию, то искренне поразились, узнав, что их будущие ученики не умеют даже читать ни на одном языке! Но зато странно, что пребывание в Петербурге всех этих ученых, германские имена которых мы только что перечислили, не принесло России решительно никакой пользы, хотя на родине они сумели заслужить себе известность своими трудами. За исключением знаменитых путешествий Палласа, исторических изысканий трудолюбивого Миллера и некоторых работ по естественным наукам, эта группа ученых, собранная за большие деньги, чтобы светить маяком в черной ночи русского невежества, не дала даже ни одной книги, которая украсила бы царствование Екатерины. Впрочем, может быть, Екатерина хотела, чтобы они играли роль не маяка, а другую? «Она любила науки, – было сказано про нее, – лишь поскольку они казались ей годными, чтобы распространять ее славу: она хотела держать их в руке, как глухой фонарь, и пользоваться их лучами, направляя их лишь туда, куда ей было угодно». Это верно: топографические и статистические труды изящного Шторха могли бы иметь большую ценность, если бы были напечатаны в той полноте, как он их писал. А в том виде, как его Картина Петербурга была завещана потомству, она стоит портрета Екатерины, исправленного Лампи по указаниям императрицы. Изображения Георги богаты, главным образом, ненужными подробностями. Граф Ангальт составил в том же духе описание кадетского корпуса, директором которого состоял: в этой книге можно найти подробнейший перечень лестниц, окон, дверей и печей заведения на радость любому трубочисту. Клингер, чтобы избежать компромиссов, оскорбительных его совести ученого, должен был печатать в Германии то, что было написано им в России. Так же впоследствии поступал и Коцебу. Екатерина оказывала покровительство только официальной науке; другой она не допускала в пределах своего государства. Рядом с каждой проблемой философии, истории и даже географии она ставила вопрос государственного порядка и за спиной всякого ученого – полицейского агента. А от такой стерилизованной науки и нельзя было ждать ничего, кроме напыщенной лести и высокопарных нелепостей.