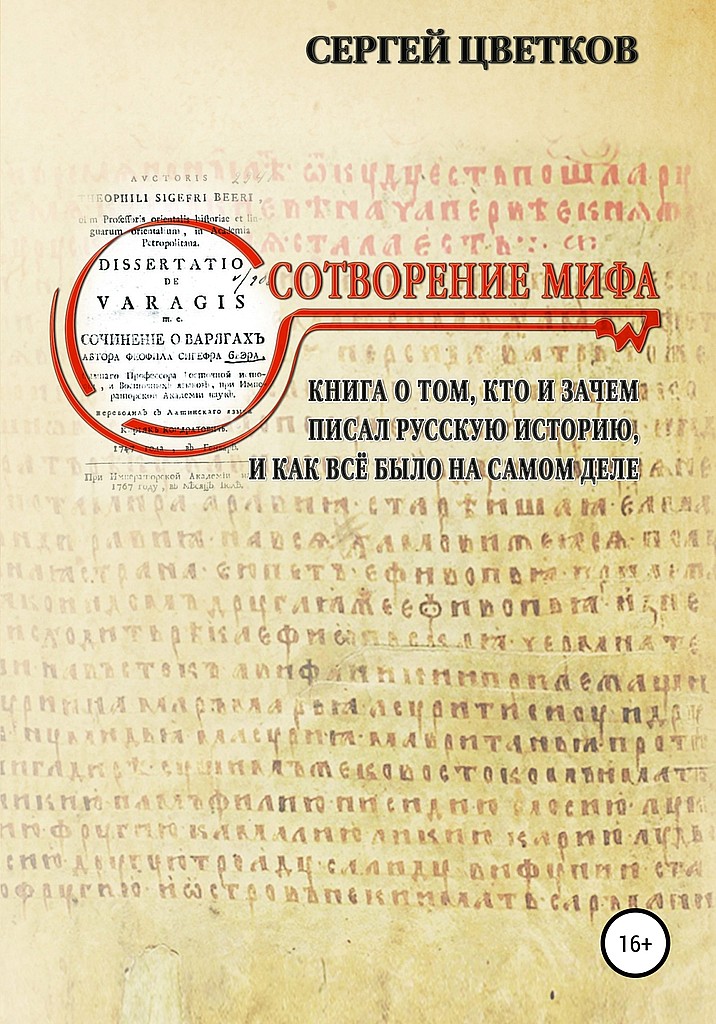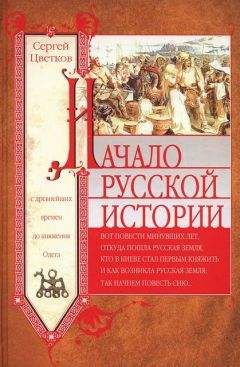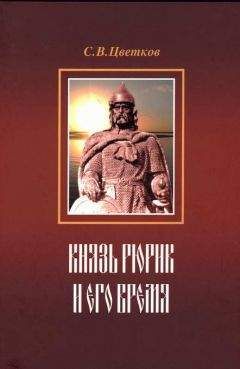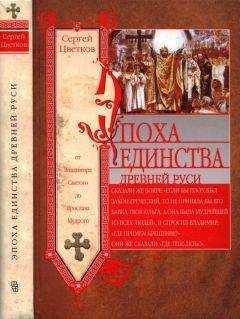неизбежен.
Дума практически отказалась от обсуждения аграрного вопроса, вопросов свободы вероисповедания и многих других. Социалисты брали в ней верх, сводя все выступления к критике и угрозам в адрес правительства.
В конце концов Столыпину пришлось отказаться от идеи создания в этой Думе сильного работоспособного центра. Возросшее давление со стороны крайне правых могло привести к отказу от Манифеста 17 октября 1905 года и полному запрещению Думы. Допустить победы реакции Столыпин не мог: это означало бы свёртывание всех задуманных им реформ. В этой сложной ситуации ему удалось сохранить равновесие, не качнувшись ни вправо, ни влево. Он пошел на роспуск Думы, но при этом провёл в жизнь новый избирательный закон, который должен был преобразовать новую Думу в действительно рабочий законодательный орган.
Левая печать сейчас же нарекла эти события «государственным переворотом 3 июня 1907 года». Этот термин до сих пор кочует по учебникам истории. Между тем акты 3 июня полностью отвечали правовым нормам законодательства Российской империи и не носили характера переворота. По сути, речь шла о новом этапе развития представительных учреждений. Столыпин наконец-то нащупал политическую линию, отвечавшую российским государственным началам. На фоне постепенного водворения законопорядка в стране, победы над массовым террором, угасания других революционных эксцессов стало необходимым и возможным приведение в соответствие политической системы и потребностей общественного развития.
16 ноября 1907 года Столыпин выступил с декларацией об историческом самодержавии. Фактически эта речь стала развитием идей выдающегося государственного деятеля М. М. Сперанского о русском конституционном монархизме и самодержавном правовом государстве. Столыпин подчёркивал, что только самодержавие «призвано в минуты потрясений и опасности для государства к спасению России и исторической правды». Но суть самодержавия, по его мысли, постоянно меняется, и нынешнее самодержавное устройство отличается от самодержавия эпохи Петра I и Екатерины II прежде всего тем, что Николай II даровал обществу представительные учреждения, обладающие правом законодательной инициативы. В то же время только один монарх продолжает нести груз ответственности перед Богом за судьбы Отечества. Поэтому в исключительных случаях он имеет право нарушить основные законы для спасения русских государственных начал, ибо сам же и даровал их обществу.
Столыпин отнюдь не стремился к насаждению произвола в государственной жизни. Он настаивал на том, что со временем подобных исключительных случаев будет всё меньше, но пока ещё Дума не имеет опыта государственной деятельности, и для сохранения государственности необходим «лёгкий нажим на закон», который не следует путать с деспотизмом, так как этот «нажим» осуществляется монархом. В самом деле, поток речей депутатов I и II Дум не вылился в созидательное законотворчество, а правительство напряженно работало. В это время Николай II издал 612 законодательных актов, и лишь 3 из них получили одобрение Думы.
Оппоненты Столыпина утверждали, что пока не даны исчерпывающие формулировки исключительных случаев, правительство может манипулировать своим правом как хочет. Но следует признать и правоту премьера: если можно разваливать государство, используя закон, то за чем нужен такой закон? Хорошо это или плохо, но это те самые «русские государственные начала», не учитывать которые трезвомыслящий политик не может.
Правильность предложенной Столыпиным политической линии подтвердилась на выборах в III Думу, где наконец образовался прочный центр умеренно-либеральных сил с октябристами во главе. Выборы показали, что общество трезвеет после кровавого похмелья революции. Столыпин с удовлетворением отметил в беседе с корреспондентом газеты «Волга», что новый строй есть «чисто русское устройство, отвечающее историческим преданиям и национальному духу» [84].
Понимая, что государственные формы неотделимы от их духовного содержания, он рассматривал Российскую империю прежде всего как государство православное. Но увлечение части интеллигенции каббалистикой, гностицизмом, теософией и прочими «духовными поисками» и, как следствие этого, критика Православной Церкви и непонимание её места в обществе и государстве вели к разрушению самобытного государственного устройства России.
Требование отделения Церкви от государства (понимаемое как отделение политики от нравственности) стало дежурным пунктом программы любой мало-мальски либеральной партии. Обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания вызвало жаркие дебаты в III Думе. Левые депутаты стремились приравнять Российскую Православную Церковь к другим исповеданиям не столько в области формально-законодательной, сколько в самой возможности духовного влияния на русский народ. В ответ на это раздался звучный голос Столыпина: «Многовековая связь русского государства с христианской Церковью обязывает его положить в основу законов о свободе совести начала государства христианского, в котором Православная Церковь, как господствующая, пользуется данью особого уважения и особой со стороны государства охраной. Оберегая права и преимущества Православной Церкви, власть тем самым призвана оберегать полную свободу её начинаниям, находящимся в соответствии с общими законами государства. Государство же в пределах новых положений не может отойти от заветов истории, напоминающей нам, что во все времена и во всех делах своих русский народ одушевлялся именем Православия, с которым неразрывно связаны слава и могущество родной земли; вместе с тем права и преимущества Православной Церкви не могут и не должны нарушать прав других исповеданий и нравоучений… Отсюда, я думаю, вытекает, что отказ государства от церковно-гражданского законодательства… повёл бы к разрыву той вековой связи, которая существует между государством и Церковью, той связи, в которой государство черпает силу духа…» [85].
Столыпин предостерегал против формального понимания свободы совести: «Везде… во всех государствах, принцип свободы совести делает уступки народному духу и народным традициям и проводится в жизнь, строго с ними сообразуясь».
Когда законодательная комиссия по этому вопросу предложила провозгласить в самом законе свободу перехода из христианства в другие религиозные конфессии, Столыпин ответил, что это предложение должно быть подвергнуто «величайшему сомнению». «Народ наш усерден к Церкви и веротерпим, но веротерпимость не есть ещё равнодушие, — предупреждал он депутатов. — Вы будете руководствоваться, я в этом уверен… соображениями о том, как преобразовать… наш быт сообразно новым началам, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства, душе народной, объединившей и объединяющей миллионы русских. Вы все, господа… бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ… вы не могли не осознавать, что раздающиеся в Церкви слова — слова божественные. И народ, ищущий утешения в молитве, поймёт, конечно, что за веру, за молитву каждого по своему обряду закон не карает. Но тот же народ… не уразумеет закона, закона чисто вывесочного характера, который провозгласит, что Православие, христианство уравнивается с язычеством, еврейством (иудейством), магометанством. Господа, наша задача не состоит в том, чтобы приспособить