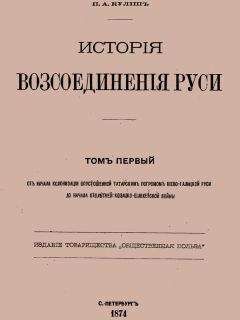Такой финал религиозно-политической борьбы невероятен уже по одному тому, что послы тут же грянули в представителей Польши и соблазнителей польской Руси царскими титулами, точно громом. Напрасно паны представляли свои сеймовые декреты, свои королевские sancita; — царские послы соглашались помиловать Польшу только под условием подтверждения Зборовского договора и уничтожения церковной унии, как главной причины восстания казаков.
Им опять, со всей убедительностью фактов, представляли, что религия во всех казацких бунтах была ни при чем. Царские послы не хотели знать истории, вещавшей устами оиезуиченных панов, как не хотели в свое время паны знать истории московской самозванщины.
По своему веку и по своей образованности, царские бояре и дьяки не могли возвыситься до признания факта, что греческой религии нельзя знать в таком государстве, как Польша: ее можно было только совращать; — не могли возвыситься тем более, что философское беспристрастие в истории, еслиб оно и было для них возможно, то не было бы выгодно: ибо тогда было бы им непристойно оправдывать казацкие разбои, напротив, следовало бы видеть в казаках то, что видели в них паны рады: общих врагов Москвы и Польши... Теперь же, стоя на почве религии, которая в своей свободе должна быть неприкосновенна ни для прямого притеснения, ни для казуистики, ни для соблазна, — царский великий посол объявил торжественно, что царь, «для православные веры и святых Божиих церквей», готов забыть личную свою обиду, если король и паны рады помирятся с казаками, которые домогаются неприкосновенности православия в пределах Польши, и помирятся не иначе, как на основании Зборовского договора.
В переводе на язык практики, царское великодушие, в настоящем случае, значило не больше и не меньше, как московский протекторат над остатком непревращенной еще в иноверщину Руси в пределах соседнего государства, — протекторат, от которого оставался один только шаг до занятия всех польско-русских провинций во имя охранения древней русской веры. По пословице: «долг платежом красен», московский царь расплачивался с Польшею за принятого Сигизмундом III под покровительство такого же разбойника, и даже большего, чем Хмель, и за насильственное присвоение царского права в Москве Владиславу Жигимонтовичу. Государственное достоинство России требовало от Польши, при уплате долга, надлежащих процентов, и вот, при всей фактической правоте вековой напастницы, она сделана преступницею, требующею казни через палача, Хмельницкого.
Царский великий и полномочный посол с тем и уехал, что Польша должна быть казнена за нарушение Зборовского договора, нарушенного казаками. Беспощадный и несправедливый, но вполне заслуженный, приговор свой формулировал он следующим образом:
«Так как великий государь, его царское величество, для православные христианские веры и святых Божиих церквей, желая успокоить междоусобие, хотел простить таких людей, которые за оскорбление чести великого государя достойны были смерти, — но король Ян Казимир и паны рады поставили это ни во что, поэтому великий государь, его царское величество, не будет терпеть такого бесчестия и не станет к вам посылать своих послов, а велит о всех ваших неправдах и о нарушении вами договора писать во все окрестные государства к государям христианским и бусурманским, и за православную веру, и за святые Божии церкви, и за свою честь будет стоять, сколько подаст ему помощи милосердый Бог».
Эти слова были только перефразом того, что говорит Иоанн III. Мысль Великого Собирателя русской земли оказалась бессмертною.
Польша находилась в отчаянном положении, как это вскоре доказали события, но, по малорусской пословице: «дурень думкою богатие», она готовилась нанести последний удар казацкому Минотавру в такое время, когда он, волею исторических судеб, сделался орудием того, «о чем», по его словам, «никогда не думал». Польша насчитывала сотни тысяч союзных сил. Она утешалась известиями, что «хлопы не хотят слушать Хмеля», а с Ордой едва начинают сговариваться. Творя своего Пана Бога по образу своему и по подобию, она твердила, что он «совершит свое дело» в пользу панов и шляхты. Наконец, она уверяла и себя, и других, что москали прислали Хмельницкому деньги и артиллерию, как будто ей от этого было бы легче.
Между тем новый волошский господарь, Стефан Гергица, просил у панов помощи, королевских советников будто у него под Сочавой 200.000 боевого народу, не считая 50.000 союзных сил, которые не дают казакам подойти на выручку Тимоша. За помощь, Гергица обещал все эти войска вести лично, куда прикажет король. Даже силистрийский баша просил короля под секретом, чтоб он привел казаков к невозможности вторгнуться в Волощину. У Яна Казимира давно уже была, как выражались его клевреты, mina imperatorska; про него, по иезуитскому камертону, трубили во все трубы, звонили во все колокола и, может быть, одна только Москва, стоя за пределами иезуитского господства над европейскими и азиатскими умами, понимала все ничтожество польского короля и всю несостоятельность его королевства.
Рассчитывая на командование сотнями тысяч войска и на подавление не только польской, но и московской Руси, Ян Казимир послал в помощь союзным князькам 40 хоругвей и 1.200 драгун с 6 пушками, под начальством Кондрацкого, по имени русина. Теперь ему оставалось только ждать от совершающего свое дело Пана Бога великие и богатые милости за свои личные и за панские добродетели. Но, чтобы тем скорее и блистательнее воспользоваться этой милостью, он двинулся со всем войском к югу, где намеревался занять удобную позицию для соединения всех союзных войск. Из этого мудрого на бумаге и на словах плана вышла, как увидим, все та же неурядица, на которую московские послы указывали панам пальцем.
Военная рада представила самому королю назначить местность для лагеря, и король избрал Галич. Разослав универсалы, возвещавшие, что он идет на казаков, король выступил 29 августа из-под Глинян. Он подвигался медленно, потому что осенняя слякоть портила дороги.
На пути своем получил он из-под Сочавы благодарность за подкрепление и вместе с нею уверение в общей готовности служить ему. Новый волошский господарь просил его направлять свой поход в Украину. Король давно уже думал о том, чтоб идти в Украину, и с этой целью послал литовскому гетману повеление — двинуться к Киеву в то самое время, когда коронное войско будет приближаться к этому центру Малороссии. Но литовский гетман «не послушался» короля, как в свое время не послушался его брата, Владислава, гетман коронный. Ослушание свое оправдывал он тем, что Москва стягивает войска к литовским границам. Итак Ян Казимир напрасно дразнил своих народных пророков, отдав кальвинисту виленское воеводство. Все обвиняли Радивила в измене; но в Польше тогда столько людей было изменниками, начиная с короля, что и самого Хмельницкого с его сыновьями, находили возможным уравнять в дигнитарствах с Замойскими, Жовковскими, Конецпольскими. Как в Московском Государстве, опозоренном так называемым расстригою, великопанскому дому Мнишков было возможно принять в свое родство Тушинского Вора, так и в королевстве «доблестных поляков», после избрания на престол расстриги по воле разбойника, следовало допустить и этого самого разбойника к участию во всех пожалованиях, предоставленных королю-расстриге.
Получив благодарственное письмо от Стефана Гергицы с просьбой о походе в Украину, и сведав, что Хмельницкий, со всеми своими силами, идет на освобождение Сочавы, Ян Казимир опять переменил свой план и решился — часть войска послать комонником под Сочаву, а с остальным подвигаться медленно к Подольскому Каменцу.
Через несколько дней пришли другие вести, — что Хмельницкий остается в Белой Церкви, и только часть казаков и татар «запустилась» под Константинов. Опять изменили план похода окружавшие своего короля паны: король должен был остаться в Галиче, а войско идти на казаков и татар. Между тем снова повторились предостережения, напоминавшие Зборовщину, — что неприятель приближается с великими силами. Король снова переменил свое намерение, и двинулся со всем войском под неприступный Каменец, где он мог дождаться безопасно обещанных ему подкреплений из-под Сочавы.
Еще через несколько дней пришли письма от Гергицы и Ракочия. Один уведомлял, что два казацкие полка идут на выручку Сочавы, что сам Хмельницкий выступил в поход, но не известно, куда, в помощь ли сыну? Или же против королевского войска, и что хан, после байрама, садится на коня. Другой просил заградить путь в Волощину — Хмельницкому на выручку сына, а Лупулу на выручку сокровищ. Ракочия пугало движение силистрийского баши с турками и татарами на сю сторону Дуная: баша мог освободить и сына Хмельницкого и сокровища Лупула от осаждающих.
Вместе с тем король узнал, что Хмельницкий приближается, но хана с ним нет. Коронное войско стояло уже тогда под Каменцом. Паны, имевшие добра в Подолии и Покутье, боялись жолнерских грабежей, поэтому убеждали короля отозвать Кондрацкого из-под Сочавы, наступить на Хмельницкого, пока не соединился он с ханом, и положить конец казацким бунтам (исщс glowЈ rcbellii), а потом взять Сочаву.