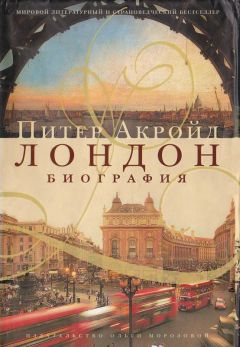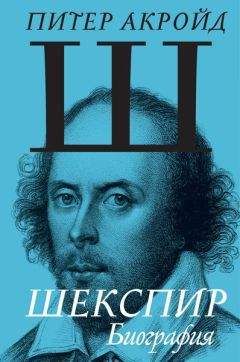Азартные игры были объявлены незаконными, но, несмотря на ночные облавы в отдельных городских «преисподних», бизнес по-прежнему процветал. «Смешанная компания джентльменов, коммерсантов, торговцев, клерков и шулеров всех рангов и званий» всегда была готова собраться ради хазарда, фараона, бассета, роули-поули или какой-нибудь другой игры, карточной или в кости. В «преисподних» обретались такие персонажи, как puffs и squibs (подставные игроки), flashers (прислужники у игорных столов), dunners (люди, которые заставляли проигравших платить) и flash captains (шулерские «капитаны») с командами дозорных, привратников и разведчиков, предупреждавших о приближении констеблей. В знаменитом игорном клубе Олмака на Пэлл-Мэлл игроки «выворачивали для счастья сюртуки наизнанку»; они также окружали запястья полосками кожи, чтобы не запачкать кружевные манжеты, и надевали соломенные шляпы, защищавшие глаза от света и не дававшие волосам падать на лоб. Иногда они играли «в масках, чтобы скрыть свои переживания». В клубе Брукса двадцать первое правило гласило: «В столовой воспрещены любые игры, кроме бросания жребия о том, кому платить. Нарушители в наказание оплачивают счет за всех присутствующих». Возникали и другие, менее приятные поводы для пари, об одном из которых рассказано в «Лондонских воспоминаниях». У дверей клуба Уайта некто, пришедший играть, упал замертво. «Присутствующие немедленно начали делать ставки — умер он или только в обмороке; когда ему захотели пустить кровь, поставившие на его смерть принялись возражать, заявляя, что пари в этом случае не будет честным».
Как писал один иностранец, лондонцы, «неистовые в своих желаниях и все страсти свои доводящие до крайности, склонны к этим крайностям и в азартных играх». Другой приезжий вторит ему: «На что поспорим? Вот первый вопрос, который сплошь и рядом задают люди всякого звания, когда возникает хоть малюсенькое разногласие по пустяковому поводу. Кто побогаче, тех после обеда с бутылкой вина, само собой, тянет на какое-нибудь пари; вот один раскалывает орех — там червяк, другой раскалывает — там тоже, и тогда третий мгновенно предлагает биться об заклад: какой из двух червяков первым проползет определенное расстояние?»
Ставки, разумеется, делались и во время жестоких игр — ловли крыс, петушиных боев, женской борьбы, — которые Лондон очень любил. Но поводом для пари порой служили и природные явления. Однажды ночью люди ощутили сильный толчок, и наутро в клубе Уайта делались ставки: «Что это было — землетрясение или взрыв на пороховом заводе?» Оказалось — землетрясение, одна из наименее предсказуемых случайностей лондонской жизни.
Один рабочий с рынка Леденхолл-маркет «побился об заклад, что 202 раза обойдет Мурфилдс за двадцать семь часов, и сделал это». Государственный министр граф Сандвич «провел за публичным игорным столом двадцать четыре часа и был так поглощен игрой, что за все время подкрепился только кусочком говядины, зажатым между двумя гренками, который он съел, не отвлекаясь ни на минуту. Это новое блюдо сделалось очень модным… оно было названо по фамилии министра, который его изобрел».
Традиции публичных азартных игр продолжились в XIX веке такими заведениями, как «Королевский салон» на Пиккадилли, «Замок» на Холборне, «Салон Тома Крибба» на Пэнтон-стрит, «Финиш» на Джеймс-стрит, «Белый дом» на Сохо-сквер, «Замок Оссингтон» на Орандж-стрит и «Бриджес-стрит-салон» на Ковент-гардене, называвшийся также «Залом бесславия» и «У чертовой матери». В противоположной части Лондона — в Ист-энде — игорных залов и клубов развелось так много, что один священник, работавший среди бедняков этого района, сказал Чарлзу Буту: «Игра теснит пьянство и становится главным из нынешних пороков… играют больше, чем пьют». Уличные мальчишки играли в карточную игру под названием «дарбз», ставки на кулачных бойцов и лошадей принимали продавцы газет, парикмахеры, содержатели табачных лавок и питейных заведений. «Ставки делают все, — приводит Чарлз Бут в своем исследовании Ист-энда слова еще одного горожанина. — Женщины наравне с мужчинами… мужчины и ребятня прут сломя голову, чтобы побыстрей прочесть последний экстренный выпуск и узнать победителя».
И еще, конечно, лотерея. Первый розыгрыш был проведен в Лондоне в 1569 году. «Страсть к счастливым номерам» пылала затем столетиями. Алеф в «Лондонских сценах и типах» отмечает, что знакомые, случайно встретившись, говорят не о погоде, а «о большом призе, который только что — или вот-вот будет — разыгран, и о счастливом победителе, и о твоем пустом билете, и о твоей полной уверенности в том, что номер 1962 выиграет 20 000 фунтов». Издавались лотерейные журналы; иные перчаточники, шляпники или чаеторговцы предлагали клиентам небольшую долю своего билета. Выигрышные номера тянул в Гилдхолле ученик школы Крайстс-Хоспитал с завязанными глазами (лондонский вариант слепой Фортуны), а вокруг здания толпились «проститутки, воры, мастеровые в грязной одежде и полуголые чернорабочие — сущие дети, бледные и нетерпеливые, ожидающие объявления номеров». Изображая в «1984» Лондон будущего, Джордж Оруэлл, в числе прочего, говорит о Лотерее. «Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их услада, их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель»[85]. Оруэлл очень хорошо понимал Лондон, и здесь он указывает на некую глубинную связь между принципом, на котором зиждется цивилизация этого города, и необходимостью игры и обмана. Лондонцу нужен стимул и нужна отчаянная надежда на куш; шансы ничтожно малы, но в таком огромном, выбивающемся из всех пропорций городе это принимается как должное. Твое пари может быть общим с миллионами сограждан — и все равно это будет пари. Предвкушение и тревога при этом тоже будут общими, так что азартную игру и лотерею можно рассматривать как судорожные всплески коллективизма.
Сегодня казино и заведения, где принимают ставки, полны народу, будь то на Куинсуэй, или на Расселл-сквер, или в Килберне, или в Стритеме, или на Марбл-арч, или в сотне других мест. Жизнь в Лондоне можно, таким образом, интерпретировать как игру, в которой выигрыш достается немногим.
В городе слухов и переменчивой фортуны, в городе всевозможных крайностей лондонская толпа за много поколений приобрела любопытную патологию. Толпа — не отдельный организм, проявляющий себя по определенным поводам, а фактическое состояние Лондона в целом. Город — это одна исполинская людская масса. «Выглянув на улицу, — писал в XVII веке один наблюдатель, — мы увидели людское скопление, волнующееся, движущееся, ищущее некое место успокоения, в чем ему мешала еще одна компания зевак, расположившаяся на самом ходу. Смесь была пестрейшая: впавшие в детство старики, наглые юнцы и мальчишки… уличные девки, женщины из простонародья с детишками на руках». Слово «пестрейшая» апеллирует к зрению, и в середине XVII века художники исподволь начали исследовать зрелище, которое являла собой лондонская толпа. Это была уже не расплывчатая масса, наблюдаемая с безопасного расстояния, а широкая группа людей, различающихся индивидуальными чертами.
Помимо зрелища, был, конечно, и шум. «Было очень темно, но мы чувствовали, как наполняется улица, и гул толпы становился все громче… около восьми вечера мы услыхали шум, доносившийся снизу, который приближался к нам по улице, неуклонно нарастая, пока мы не ощутили движение». Громкий неопределенный гул, нарастающий до рева и сопровождающийся странным всеобщим движением — вот подлинный голос Лондона. «За этой волной была пустота, но она быстро заполнилась, и вот уже нахлынула новая такая же волна; так одна за другой прошло четыре или пять подобных волн… разинутые рты исторгали хриплый, оглушительный рев». В этом звуке есть что-то примитивно-грубое и тревожащее, что-то первобытное и потустороннее. Приведенное описание взято из книги Берка «Улицы Лондона на протяжении столетий» и относится к антикатолическому шествию по Флит-стрит в конце XVII века; ощущение угрозы усиливается образом человека, который «в громкоговорящую трубу голосил: „Мерзавцы! Мерзавцы!“ с выражением едва ли не адским». Да, шум Лондона может быть грубым и нестройным, но бывало и так, что горожане испускали общий вздох скорби. 30 января 1649 года, в день казни Карла I, на Уайтхолле собралась громадная толпа; в тот миг, когда удар топора отсек монаршую голову, «многие тысячи стоявших издали такой стон, какого я не слыхал никогда и, чаю, больше не услышу».
Однако для роялистов XVII века лондонская толпа — это «прескверное отребье, подлый и мерзейший сброд, отбросы людские… мастеровые и их ученики». Иными словами, человеческое скопище уже представляет ощутимую угрозу; толпа превращается в mob, в ораву (слово возникло в XVII веке) и при случае может стать Оравой Коронованной.