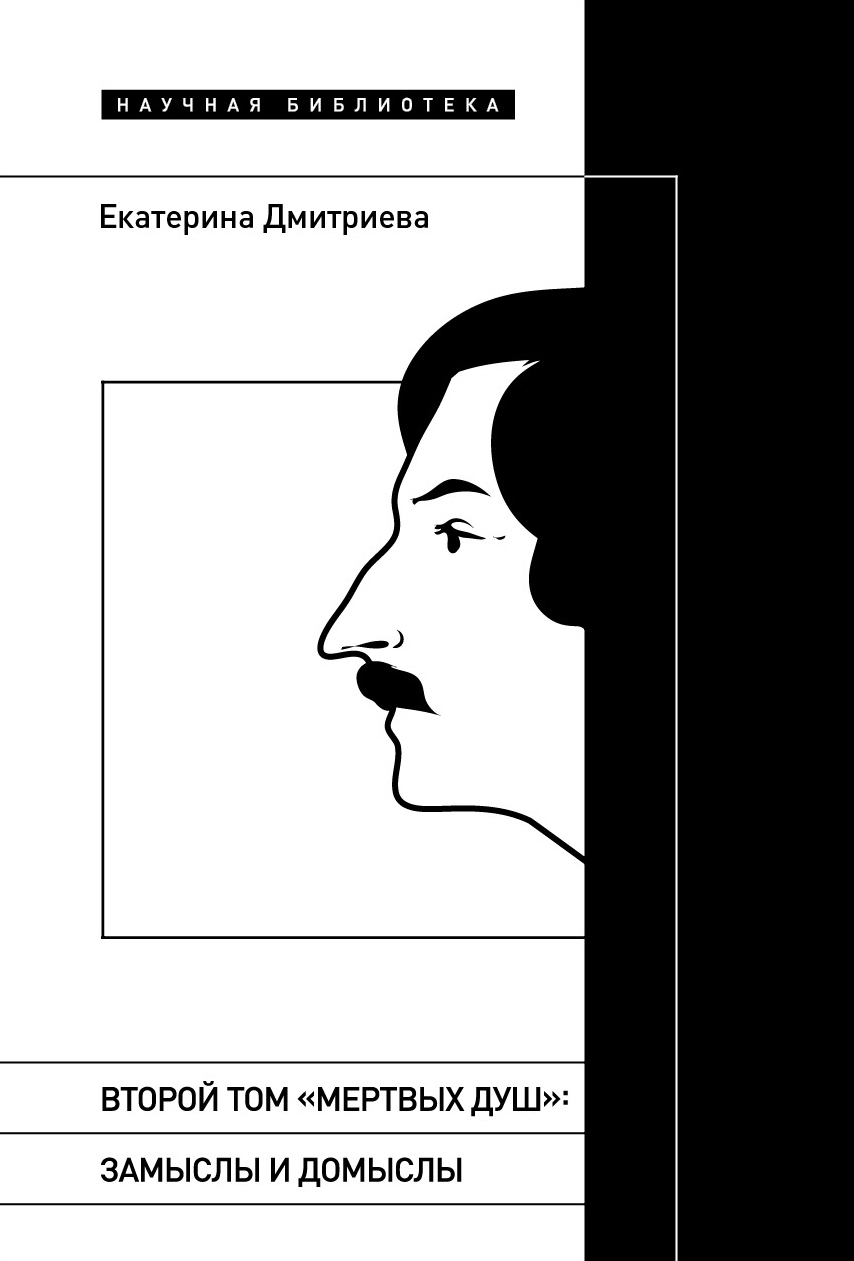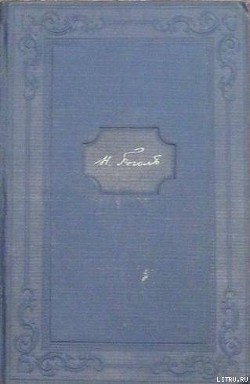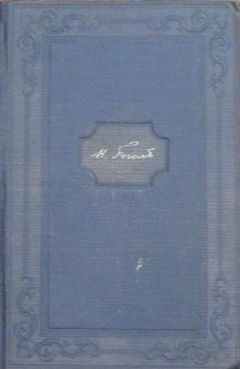этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить
живыми образами, а не рассужденьями. <…> хочу заняться крепко «Мерт<выми> душами».
Но, добравшись до Иерусалима, всю надежду он возлагает на свое возвращение в Россию. Н. Н. Шереметьеву он просит:
Молитесь теперь о благополучном моем возвращении в Россию и о деятельном вступленьи на поприще с освеженными и обновленными силами. Летнее время проведу в Малороссии, а в августе месяце, может быть, загляну в Москву (письмо от 17 (29) февраля 1848 г., Иерусалим).
Сравним это письмо с более поздним письмом, и тоже Н. Н. Шереметьевой, но теперь уже из Васильевки:
Мысль о моем давнем труде, о сочинении моем, меня не оставляет. Все мне так же, как и прежде, хочется так произвести его, чтоб оно имело доброе влияние, чтоб образумились многие и обратились бы к тому, что должно быть вечно и незыблемо (от 16 мая 1848 г.).
И все же, оказавшись весной, по возвращении из Иерусалима, в родных местах, Гоголь, вновь пребывает в ожидании. «О себе скажу то<лько, что> еле-еле осматриваюсь. Вижу предметы вокруг меня как бы сквозь какую-то мглу. Многое для меня покуда задача. Боюсь предаться собственным заключеньям, чувствуя, что малейшей торопливостью и опрометчивостью могу наделать больше вреда, чем всякой иной писатель», – пишет он из Васильевки М. П. Погодину 12 мая 1848 года [106].
Приблизительно в тех же словах сообщает о себе и П. А. Плетневу:
Я еще ни за что не принимался. Покуда отдыхаю от дороги. Брался было за перо, но или жар утомляет меня, или я все еще не готов. А между тем чувствую, что, может, еще никогда не был так нужен труд, составляющий предмет давних обдумываний моих и помышлений, как в нынешнее время. Хоть что-нибудь вынести на свет и сохранить от этого всеобщего разрушенья – это уже есть подвиг всякого честного гражданина (письмо от 8 июня 1848 г., Васильевка).
О том же бездействии свидетельствуют и дальнейшие летние письма 1848 года В. А. Жуковскому и П. А. Плетневу:
Еще не принимался сурьезно ни за что и отдыхаю с дороги, но между тем внутренне молюсь и собираю силы на работу. Как ни возмутительны совершающие<ся> вокруг нас события, как ни способны они отнять мир и тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; о прочем позаботится Бог (письмо В. А. Жуковскому от 15 июня 1848 г., Полтава).
Я ничего не в силах ни делать, ни мыслить от жару. Не помню еще такого тяжелого времени (письмо П. А. Плетневу от 7 июля 1848 г.).
В последнем, правда, письме в качестве оправдания присутствует ссылка на свирепствовавшую в то время на Украине холеру.
Но действительно ли Гоголь бездействовал летом 1848 года в Васильевке, как об этом писал Н. С. Тихонравов? [107] Или же сам факт чтения им в это время драмы К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (М., 1848) [108] заставляет его задуматься о том, что можно как-то иначе, чем это сделал ее автор, представить «высшее свойство» русской жизни и при этом не свести произведение к декларативному доказательству любимой своей мысли? [109]
В середине октября 1848 года Гоголь возвращается в Москву. И опять его письма полны признаниями о бездействии, наполненном, правда, каким-то трепетным ожиданием.
«Я еще не тружусь так, как бы хотел, чувствуется некоторая слабость, еще нет этого благодатного расположенья духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что чует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени», – пишет он А. М. Виельгорской (письмо от 29 октября 1848 г., Москва). И тут же словно противоречит сам себе, говоря, что собирается начать читать ей лекции со второго тома «Мертвых душ», что заставляет предположить, что хотя бы частично он уже написан:
…мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2‐м томом «Мерт<вых> душ». После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще доселе не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: «Он знает, точно, русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство».
Если судить по дальнейшим письмам Гоголя ноября – декабря 1848 года, то складывается впечатление, что труд, «для которого дал Бог средства и силы», все еще находится в стадии «сурьезного обдумывания», как он это формулирует в письме А. О. Смирновой от 18 ноября 1848, Москва.
То же – в письме П. А. Плетневу (от 20 ноября 1848 г., Москва):
…соображаю, думаю и обдумываю второй том М<ертвых> д<уш>. Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде, чем примусь сурьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка.
И чуть более обнадеживающе – в письме А. М. Виельгорской (от 28 декабря 1848 г.), когда Гоголь уже переехал от М. П. Погодина к А. П. Толстому в дом Талызина на Никитском бульваре:
Но до сих пор все как-то не устроивалось в порядок, ни здоровье, ни жизнь, ни труды и занятия. Впрочем, говорить так – может быть, уже неблагодарность. Все же я не прикован к постели, но хожу и двигаюсь; все же хоть и с трудом, но переношу мороз и холод; все же хотя и медленно, но движется труд и занятия.
25 февраля 1849 года Гоголь сообщает А. С. Данилевскому:
Насчет II тома «М<ертвых> д<уш>» могу сказать только то, <что> еще не скоро ему до печати. Кроме того, что сам автор не приготовил его к печати, не такое время, чтобы печатать что-либо, да я думаю, что и самые головы не в таком состоянии, чтобы уметь читать спокойное художественное творенье. Вижу по «Одиссее». Если Гомера встретили равнодушно, то чего же ожидать мне?