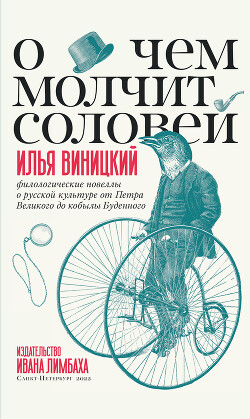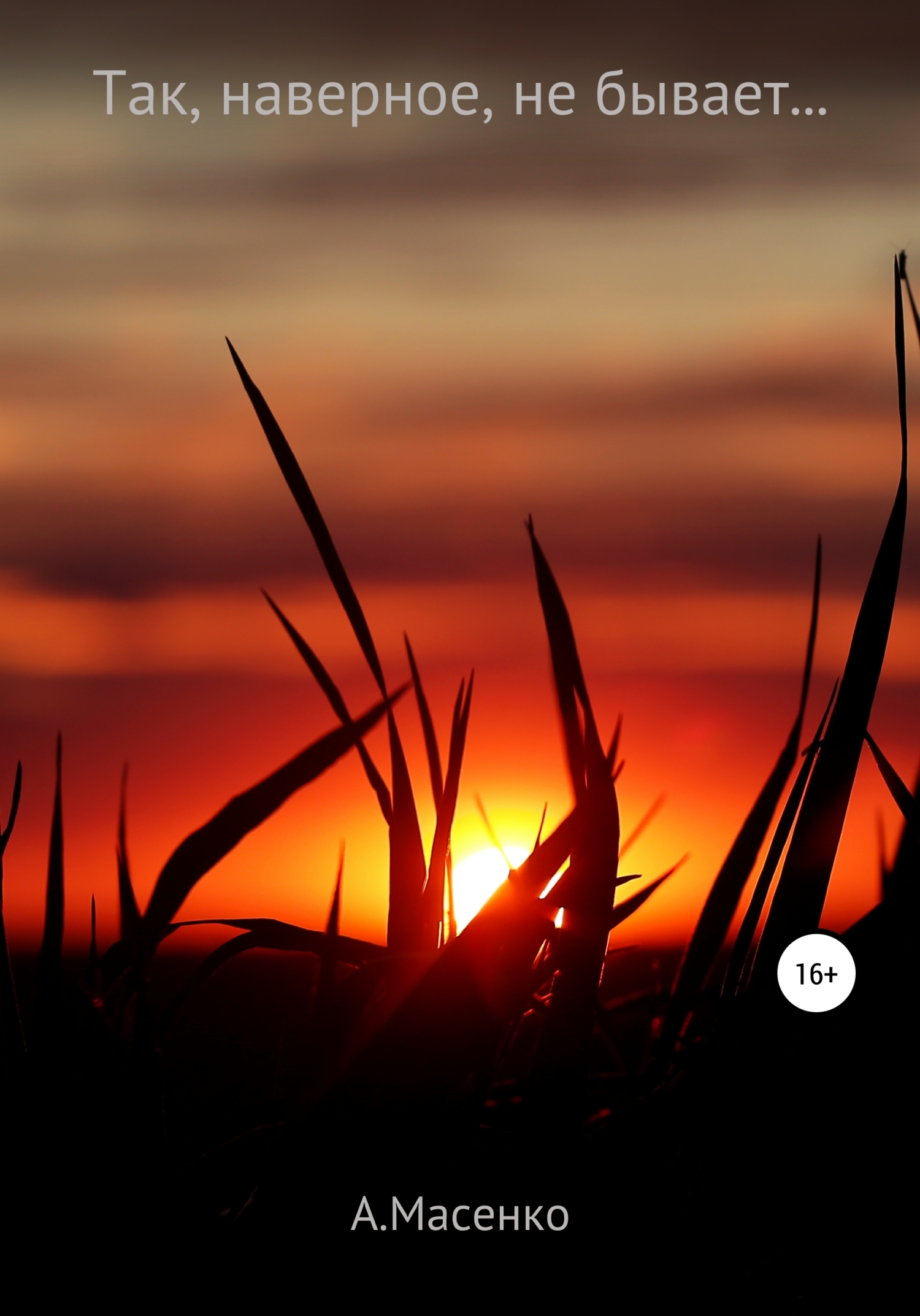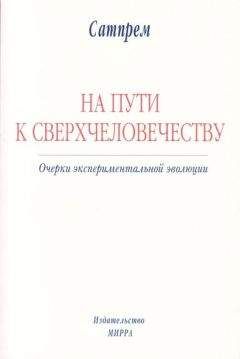Интересно, что в черновых набросках этой главы содержится краткая запись, проливающая свет на внутреннюю логику развития космической фантазии Достоевского: «150 град. морозу. Яйца печь на свечке» [44]. Если первая часть этого конспекта связывается с научными (жюль-верновскими) гипотезами, о которых говорилось выше, то вторая вводит литературную этическую тему. Это слова из известной басни И. А. Крылова «Напраслина», посвященной нерадивому брамину (монаху), обвинившему лукавого в том, что тот его попутал нарушить пост и испечь яйца на свече. В финале басни лукавый (зд. бесенок) возмутился бесстыдством грешника:
«Не стыдно ли», кричит: «всегда клепать на нас.
Я сам лишь у тебя учился сей же час,
И, право, вижу в первый раз,
Как яица пекут на свечке» [45].
Хотя это же выражение встречается и в русской пословице, приводимой Владимиром Далем, и в одной веселой украинской народной сказке, скорее всего, Достоевский думал здесь именно о крыловской морали (во второй половине 1870-х годов он несколько раз ссылался на мудрость русского баснопица, забытого «в наш теперешний деловой и мятущийся век» [46]), которую хотел вписать в смысловой контекст кошмара Ивана Федоровича: кто у кого еще учиться должен, люди у чертей или наоборот? (Много лет спустя о. Александр Мень воспользуется этой же крыловской сентенцией в одной из христианских бесед. По мнению богослова, верующему человеку не следует перекидывать с себя ответственность на адские козни, ибо «нечего на дьявола пенять, коли рожа крива» [47].) Приведенная запись Достоевского показывает, что космические холод и тьма интериоризуется писателем в образ грешной души героя, ощущающего свою личную вину. (Возможно, что от крыловского мотива Достоевский отказался потому, что образ свечки понадобился ему для знаменитого признания черта в том, что больше всего он хотел бы перевоплотиться в толстенную купчиху, чтобы иметь возможность ставить Богу свечки в церкви.) Черт «притягивается» к темной душе по нравственному закону (назовем его «психологической механикой»), как искусственный сателлит к небесному телу.
Кстати (говоря о игривом «хе-хе» из реплики черта), не является ли полемическим ответом на теологическую тему топора-спутника в «Братьях Карамазовых» знаменитая рационалистическая аналогия Бертрана Рассела о летающем по орбите чайнике («a china teapot revolving about the sun in an elliptical orbit»)?
Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот — скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов.
Но заяви я далее, что, поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся — достойным внимания психиатра в просвещенную эпоху, а ранее — внимания инквизитора (курсив мой. — И. В.) («Is There a God?», 1952) [48].
Даже если Достоевский и не был пророком, то умел провоцировать умы на большом временном расстоянии. А что же топор?
«А что же топор?» — со свирепым и настойчивым упорством может спросить нас апологет научной интуиции Достоевского. Ведь только у этого писателя он оказывается в космосе чем-то вроде искусственной луны. И тут не все так просто. В 1860 году в лондонском издательстве друга А. И. Герцена Н. Трюбнера вышло посвященное русским детям и пропитанное острыми политическими аллюзиями и выпадами собрание «Путевых чудесных приключений барона Мюнхаузена», подготовленное загадочным (или загадочной) переводчиком «К. М». По мнению историка русской мюнхаузеаны А. В. Блюма, это издание представляло собой «очень остроумную литературную мистификацию — нередкий прием в издательской практике русских революционеров, часто маскировавших свои книги» [49].
В шестой главе этой книги описывалось восхождение барона на луну и спуск его с этого спутника земли. Отправился он туда в прямом смысле слова за топором. В турецком плену Мюнхаузен должен был выносить каждое утро султанских пчел «на цветистое поле и стеречь их». Но однажды вечером он потерял пчелу и тотчас же заметил, что два медведя напали на нее, чтобы полакомиться медом. У барона с собой был только серебряный топорик, полученный как знак отличия султанского садовника. Он бросил его в разбойников, чтобы напугать их и «освободить бедное насекомое». «Но по какому-то странному закону, — признается барон, — топор мой полетел вверх и, зацепив на полете за рог луны, повис на нем, как на гвозде. Что было делать?» [50] (курсив наш. — И. В.). Вернуть застрявший в космосе топор он смог с помощью быстрорастущего турецкого боба, по которому он взобрался на месяц и вернулся на землю по веревке из соломы, завязанной одним концом за луну.

Достоевский упоминает «портрет и личность» барона Мюнхаузена в «Записной книжке» начала 1860-х годов. Может быть, в сознании его и застрял этот фантастический образ, унаследованный потом Иваном Федоровичем и его чертом. (Английское издание перевода книги Распе Достоевскому, посетившему Лондон в 1862 году, могло быть известно. Первое русское издание «Путешествий и приключений барона Мюнхаузена» вышло в Петербурге в 1872 году.)
Заметим, что образ топора на луне впоследствии стал одной из визитных карточек короля фантазеров. В конце 1920-х годов переводчик книги Распе К. И. Чуковский читал расхныкавшимся и расшумевшимся ребятишкам в одной лечебнице на берегу Черного моря свой пересказ приключений барона и по прочтении отметил «взрывчатый хохот ребят», слушавших «и про топор, залетевший на луну, и про путешествие верхом на ядре...» В свою очередь, советские педагоги называли «издевательством над девятилетним гражданином Советской страны» «считать его таким беспросветным глупцом, который способен поверить, что топоры взлетают на луну!» [51]

При всей своей политической «заряженности» в творчестве Достоевского (призывы Руси к топору, топор Раскольникова, страх перед топором в «Бесах» и т. п.) образ этого залетевшего в космос инструмента в галлюцинации Ивана представляется нам не только зловещим, но и одновременно комически окрашенным — как в фантастической истории честнейшего барона. По крайней мере, комическим для господина черта (у нас нет сомнений, что похождения главного в истории литературы лгуна должны высоко цениться на том свете, если он, конечно, существует).
Очень похоже, что летающий топор Достоевского также является не «своим», а «усвоенным» из западной художественной литературы образом (русский гений, так сказать, и топор подковал).
Ай-люли (публицистический финал)
И все-таки мы должны признать, что в каком-то смысле русский писатель действительно смог предвидеть важное техническое изобретение в знаменитом видении Ивана.
Лет пять тому назад в газетах сообщалось, что президент России В. В. Путин посетил Международный авиакосмический салон в Жуковском, на котором маленькие любители авиатехники со всей страны во главе с пятилетним Тимофеем показали ему летающий на электродвигателе полутораметровый топор, который может пригодиться для выходов космонавтов в космос [52]. Путин умилился и cпросил (quelle idee!): «А утюг можете?» — не иначе как имея в виду русский аналог американского «летающего утюга» F-117 Night Hawk Lockheed. В результате пару лет назад новосибирскими инженерами была представлена модель летающего на спирту утюга, но аэродинамика последнего оказалась хуже, чем у топора [53].