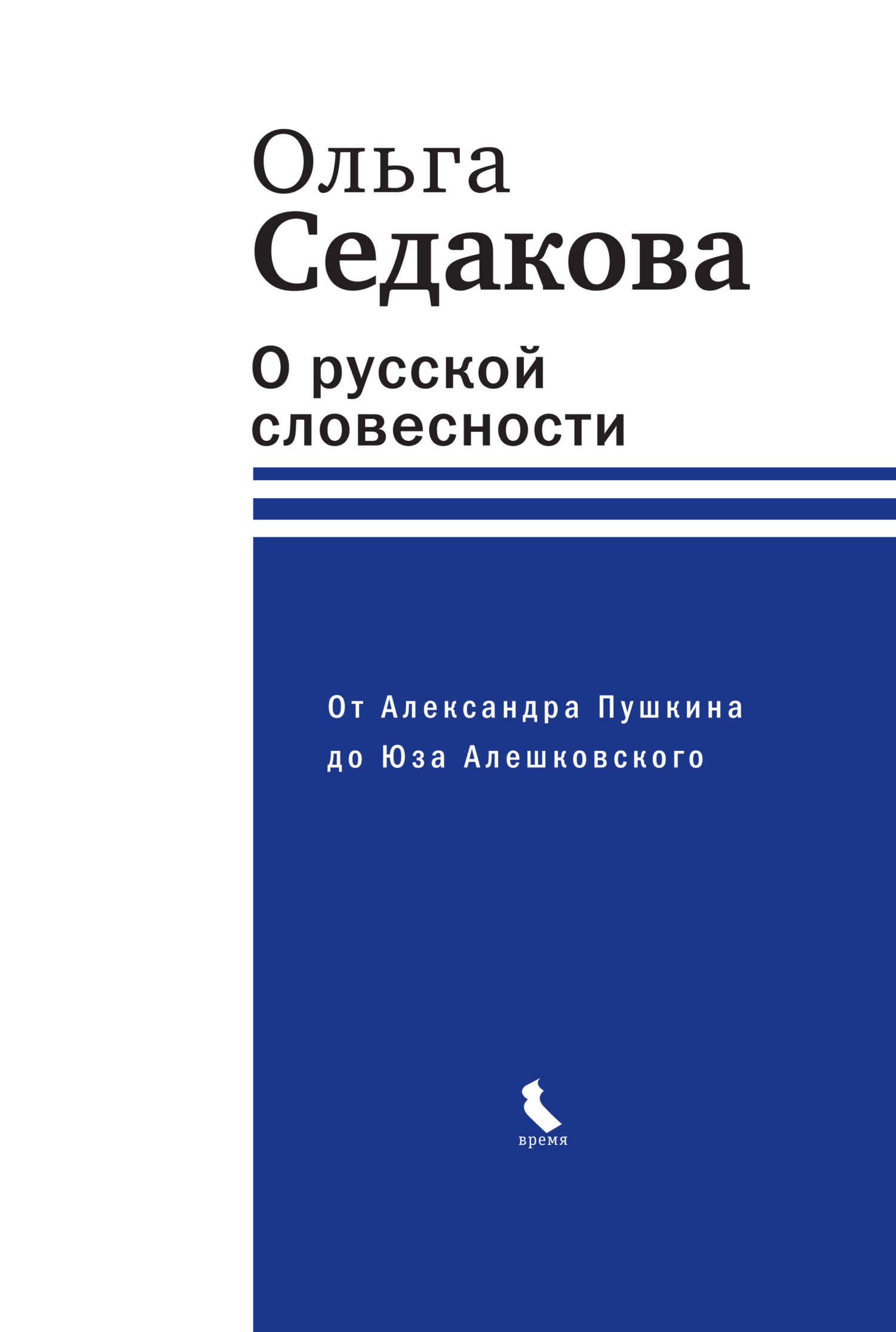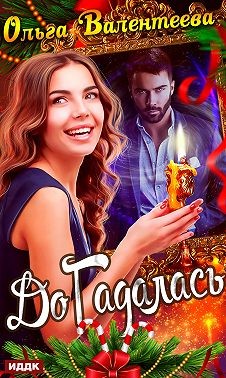такое предположение: «…и в дни, когда бушевала война, я часто думал о том, что она вряд ли посмела бы разразиться, если бы в четырнадцатом году глядели еще на мир зоркие и проницательные серые глаза старца из Ясной Поляны. Было ли это с моей стороны ребячеством? Как знать. Так пожелала история: его уже не было с нами – и не было никого равного ему. Европа неслась, закусив удила, – она уже больше не чуяла над собою руки господина, – не чует ее и поныне» [92].
«Рука господина», говорит Т. Манн. Сам Толстой сказал бы: «идея поэзии». В европейском путешествии, за чтением новейшей литературы Толстой записывает в дневник: «Консерватизм невозможен. Нужны более общие идеи чем идеи организмов государства – идеи поэзии, и ее не уловишь в Америке и в образующейся новой Европе» (12/24. VIII.1860). Что же такое эта поэзия, вместе с любовью составляющая толстовский закон мира (во всяком случае, это никак не сочинение регулярных стихов)? Оставим это размышлениям читателя. В. В. Бибихин комментирует слова Толстого: «Поэзия это и есть та „более общая идея“, которая сильнее чем целесообразность и справедливость».
Лекции В. В. Бибихина написаны сырым, свободным языком, близким языку «Дневников» и потому тоже не представляют собой легкого чтения. Объяснений, как мы говорили, здесь нет и потому быть не может никаких «выводов» и «диагнозов». Проще (в обычном смысле) Толстой после этих лекций не становится. Он становится реальнее. Лекции В. В. Бибихина, вероятно, впервые всерьез всматриваются в весть Толстого. Всматриваются не предвзятыми и не пустыми глазами: в зрении самого автора есть тот изменяющий опыт, о котором говорит Толстой. В. В. Бибихин возвращает присутствие Толстого в нашу жизнь. Его здесь, в России, давно не было.
Июль 2012 года, Азаровка
«Рамки европейского романа как-то тесны для меня», признавался Толстой во время работы над «Войной и миром», эпопеей, которую Т. Манн назвал и «Илиадой», и «Одиссеей» русской литературы [93]. В самом деле, та ширь и тот размах, которых хочет Толстой, дышат только в древних, первых вещах: в Гомере, в греческих трагиках, в историях Авраама и Иосифа из Книги Бытия, в Ригведе, в народной песне… Там, где голос повествователя выходит из океана человеческого хора – и этому почти безымянному голосу отзывается вселенная со всеми своими реками, скалами, звездами, птицами, лошадьми… Толстому было тесно в мире индивидуального, в мире «культуры», противопоставленной «природе», в своем XIX веке. Но теснота началась много раньше: уже Шекспир казался ему узким и «выдуманным». Ему было тесно в любой установившейся форме, в любой социальной роли. Тесно было быть писателем, помещиком, педагогом, проповедником, человеком своего сословия и своего времени. Тесно было в том, что считается «мыслью» («умникам» и «умным мыслям» от него достается) и в том, что считается «чувством». Ему было тесно в том, что принято считать «обычной жизнью»: главным в этой жизни для него, как и для его героев, была не сама ткань существования (которую он чувствовал и умел передать как никто), а прорехи в ней, те «отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее». Такими «отверстиями», по Толстому, были кончина и роды. Но и еще: влюбленность, сострадание; музыка и поэзия… Те моменты, когда «душа поднималась на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею» («Анна Каренина»). Ему тесно было быть не только «писателем» или «мыслителем» – но «Львом Толстым»! И он нашел для себя выход из «Льва Толстого». В «Дневниках» он описывает собственный способ расправляться с «Львом Толстым» в себе: «Нужно спрашивать: я этого хочу или Лев Толстой? Если Лев Толстой, так и Бог с ним». То «я», которое в нем судило «Льва Толстого», было, как он назвал это, «сознанием всего мира», «жизнью души», как будто не принадлежащей ему лично, души, входящей в некое безмерное целое [94]. Повесть «Хозяин и работник» прямо изображает это чудо – выход человека из «себя», каким сам он и все остальные его знают, к другому и настоящему себе. Герой повести, хозяин (однозначно «отрицательный», низкий герой) перед лицом смерти вдруг узнает, что его душа, его жизнь – это жизнь его замерзающего слуги, и он спасает его именно потому, что хочет спасти себя. Я завидую тому, кто еще не читал «Хозяина и работника»: его ожидает удивительное впечатление. Евангельская заповедь любви к ближнему, с ее уточнением «как самого себя» (на котором мы обычно особенно не задерживаемся) открывает здесь свой прямой и категорический смысл. Ты – это не тот «ты», которым ты сам себя считаешь и чьей жизнью и подробностями этой жизни так дорожишь или мучишься: твоя жизнь в другом. Ты – это он. Тат твам аси, на санскрите.
И еще о тесноте. В своих воспоминаниях о поездке в Ясную Поляну Максим Горький забавно говорит, что Толстому тесно с Богом, как двум медведям в одной берлоге. Сравнение в толстовском стиле, но, я думаю, Горький не все понял: Толстому тесно с учением о Боге. Он спорит, и очень грубо, с догматами и чудесами, но кажется, что главное, что его отталкивает в церковной жизни, – все то же чувство тесноты. Я не собираюсь обсуждать этой болезненной темы, Толстой и Церковь. Меня интересует другое: то, что Толстой открывает нам.
В толстовском бунте против тесноты, против всякой готовой формы и всяческих рамок и условностей легко увидеть характерно русский анархизм и нигилизм. Легко увидеть в нем и предтечу новейших контркультурных движений. И в самом деле, если мы вычтем из этого настроения главное, то, несомненно, получим и русский анархизм, и контркультурный порыв, и «деконструкцию». Главное же заключается в том, что у Толстого это движение – не побег в ничто, не жест отчаяния, а движение вверх, в бесконечный простор, в «жизнь души», которая управляется «законами любви и поэзии», его словами.
Я думаю, первый дар, который мы получаем от чтения Льва Толстого, – это ясное, как день, чувство великого простора, к которому тянется человеческая душа, так что ничто другое ее не утолит. Тяга к такому «себе», какими мы себя еще не знаем, но ждем, сознавая или не сознавая это. Душа не успокоится ни на чем кроме безмерности и – одновременно – причастности к целому, ко всему. Все остальное тесно.
В частности, тесно то, что называется «нашим временем». Фантастический анахронизм Толстого, который говорит с древними мудрецами Греции, Индии или Китая как их