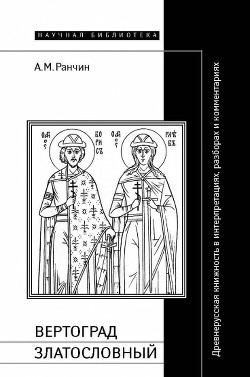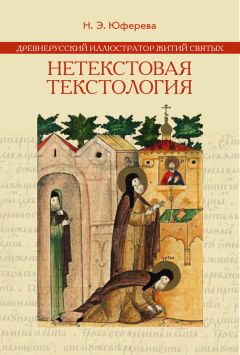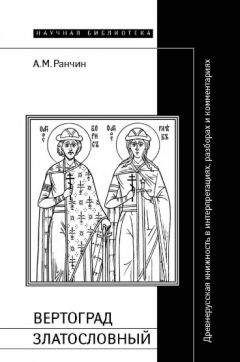В культурной парадигме, восстанавливаемой по Вацлавским и Борисоглебским житиям и близким к ним повестям об убиении князя, поступки истинного князя воспринимались как «кенотическое» подражание Христу, увенчанное, как наградою, мученическим венцом (Легенда Никольского и, в меньшей мере, Востоковская легенда, Чтение о Борисе и Глебе, Повесть об убиении Андрея Боголюбского). В случае святого Владимира мученический венец достался не ему (хотя в Памяти и похвале Иакова мниха упомянут венец, полученный Владимиром от Бога, а сам князь назван «агнцем»), а его сыновьям — Борису и Глебу. Но в древнерусских произведениях образ Владимира как бы сливался с образами его сыновей [256], — так что Владимир прославлялся не только как креститель Руси, но и как отец святых мучеников: «Радуйся, Володимире, примыи венець от вседержителя Бога <…> Радуйся, честное древо самого рая, иже воздрасти нам святей леторасль святую мученику Бориса и Глеба, от нею же ныне сынови рустии насыщаются, приемлюще недугом ицеление» (краткая проложная редакция жития святого Владимира) [Серебрянский 1915. С. 15. 2-я паг.].
И в текстах «владимирского» цикла, и в житиях Вячеслава и Бориса и Глеба в основе поступков святого князя лежит кенотическое самоумаление, смиренное и любовное служение Богу и ближнему: Вячеслав и Владимир привечают ближних и питают их, Борис и Глеб, не желая пролить крови подданных брата Святополка и своих подданных, не сопротивляются убийству. Самоумаление князя проявляется в преодолении черт, свойственных самому княжескому сану — привязанности к мирскому богатству, гордости, жажды мести (ср. Вячеслав, особенно в Легенде Никольского, Борис и Глеб, а также Андрей Боголюбский, Давыд Смоленский [257], Владимир Василькович Волынский [258]).
Уподобление княжеского служения земной жизни Христа поддерживалось представлением о князе как о носителе родового начала, предстательствующего за своих предков и потомков и за всю землю — «отчину и дедину» [259]. Не случаен сквозной мотив «рода праведных» в Борисоглебских житиях (Сказание о Борисе и Глебе [260]). Князь (герм. *kuningos) — «родовой вождь», исторически — вождь и жрец одновременно [261], он «глава» «тела» — Русской земли. Семантика образа князя как носителя родового начала поддерживается (в памятниках о князе Владимире) сравнениями с библейскими царями, воспринимавшимися в Ветхом Завете как представители того или иного рода.
Показательны строки о святой Ольге в Повести временных лет под 955 г.: «и поучи ю патреархъ о вере, и рече ей: „Благословена ты в женах руских, яко возлюби светь, а тьму остави. Благославити тя хотять сынове рустии и в последний родъ внукъ твоих“» ([ПЛДР XI–XII 1978. С. 74]; ср.: [ПВЛ. С. 32]). Русская княгиня Ольга, фактически не первая христианка на Руси, но первая — княгиня-христианка, прославляется особенно, потому что в ее лице как бы вся Русская земля знакомится с светом новой веры (ср. в летописном некрологе: «Радуйся, руское познанье къ Богу, начатокъ примиренью быхомъ» [ПЛДР XI–XII 1978. С. 82]). Сходным образом выражено и прославление Владимира в Памяти и похвале Иакова мниха: «И вси людие Рускыя земли познаша Бога тобою, божественыи княже Володимере» [Зимин 1963. С. 68]; ср.: [БЛДР-I. С. 320] [262].
Об особенном отношении к князю как фигуре, наделенной сакральным ореолом, свидетельствует почитание одежд первых русских князей, которые хранились в киевских храмах в память об их деяниях (Лаврентьевская летопись под 6711/1203 г. [263]), и почитание их оружия, часто также сохранявшегося в церквях (меч Болеслава I Храброго [264], копье святого Вячеслава, копье Олава Святого [265], мечи Всеволода-Гавриила и Довмонта [266], меч Святого Олава в константинопольском храме [267]).
Отношение к князю как к фигуре, «олицетворяющей», воплощающей в себе всю полноту рода и страны [268] (потому и полученная им благодать как бы снисходит и на его потомков и подданных) прослеживается и в Вацлавском культе в Чехии [269].
Таким образом, князь предстает в чешской и русской агиографии древнейшего периода исполнителем особого христианского подвига, мирского служения Богу (характерно, что постриг Вячеслава осмыслен составителем Востоковской легенды как аналог монашеского пострига). Монашеская жизнь почиталась более богоугодной (и потенциально «более святой»), чем жизнь в миру; аналогично и благочестивый князь скорее, нежели мирянин-простолюдин, мог быть причислен к лику святых [270]. Не случайно в первые века христианства на Руси неизвестны (за исключением собственно мучеников за веру, как отец и сын варяги) не только миряне-страстотерпцы, но и вообще местные святые-миряне. (В греческой церкви существовал «тип» святого, удостоившегося канонизации за богоугодную жизнь в миру.)
Особое значение образа князя-святого проявляется в том, что в древнечешских и древнерусских агиографических памятниках ему постоянно «ищутся» архетипы-соответствия в священной истории [271], «подбираются» христологические мотивы и символы. История убиения Бориса и Глеба обладала богатыми возможностями для подобного рода уподоблений, так как целый ряд библейских изречений (о любви к братьям) обретал в Борисоглебских житиях прямой, а не «расширительный» смысл: Борис, Глеб, Святополк и Ярослав были действительно братьями. Семантический ряд: «Борис — Глеб — их отец Владимир» соответствовал соотношению Христа и его небесного Отца [272]. В Борисоглебских текстах, как и в Вацлавских, была реализована также архетипическая «схема» убиения Авеля Каином. Такие — не метафорические, а непосредственные — совпадения Борисоглебских памятников с библейскими архетипами, возможно, отчасти, объясняли включение рассказов о святых братьях в Паремию, вместе с ветхозаветными текстами. Жития Бориса и Глеба до некоторой степени становились не отражениями библейского архетипа, а текстами «одного уровня» с историческими книгами Ветхого Завета [273].
Сопоставление Вацлавских житий с произведениями о князе Владимире позволяет приблизительно реконструировать семантику фигуры князя как правителя. Сравнение житий чешского князя и русских братьев с древнерусскими произведениями, условно обозначаемыми как «повести о княжеских преступлениях» [274] (так называемые Повесть об убиении Игоря Ольговича, Повесть об убиении Андрея Боголюбского [275], Рассказ о преступлении рязанских князей), раскрывает смысл образа князя-страстотерпца [276]. Мотив искупления грехов, омытых кровью убитого или претерпевшего страдания князя, присутствует во всех текстах [277]. В Вацлавских и Борисоглебских памятниках, а также в Рассказе о преступлении рязанских князей [278] он очевиден; в Повести об ослеплении Василька Теребовльского не столь явен (слова князя о кровавой сорочке, в которой он хотел бы предстать перед Богом) [279]. Мотив непротивления, не-бегства от грозящей смерти присутствует в Вацлавских житиях — Легенде Никольского, Crescente fide, легендах Кристиана, Гумпольта и Лаврентия [280] (за исключением Востоковской легенды, в которой Вячеслав не знает о готовящемся убийстве и сопротивляется брату), Борисоглебских (смерть Бориса) и в Повести об убиении Андрея Боголюбского (князь Андрей знает о заговоре, но не предпринимает мер против врагов [281]).