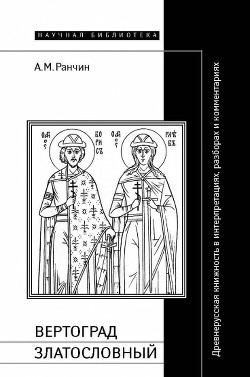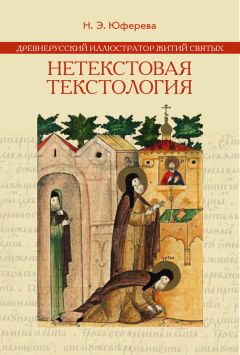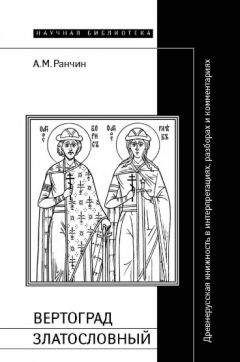И тройное возглашение ребенка из материнского чрева, и отказ от молока, и прозорливость священника при крещении свидетельствуют о Варфоломее-Сергии одно и то же: что он станет монахом, основателем обители Святой Троицы.
Другая триада в Житии, три главных события в жизни Сергия — крещение, дарование «книжного разумения» и пострижение. Совершителями всех трех событий выступают священники: иерей Михаил, крестивший святого, некий старец (в его образе Сергию, как можно понять, явился ангел [541]) и игумен Митрофан, который постриг Сергия в монахи. Все три священника извещают о великом призвании Сергия. Эти события отмечают ключевые моменты в его жизни: вступление в церковь, постижение религиозной мудрости и уход из мира и принятие монашества, полное посвящение себя Богу. Принятие монашества — главные, поворотные событие и решающий поступок Сергия; все предшествующее — лишь предварение пострижения Сергия в монахи. Все три эпизода особо отмечены в Житии сходными символическими мотивами. И священник Михаил, и некий старец, и игумен Митрофан свидетельствуют о великом предназначении Сергия: и Михаил, и чудесный старец говорят о святом как о служителе Святой Троицы; Митрофан же постригает Сергия в Троицкой церкви. И в эпизоде с чудесным пресвитером, и в эпизоде пострижения Сергия Митрофаном упоминается о литургическом хлебе, о просфоре. Старец «подасть ему нечто образом акы анафору, видением акы малъ кусъ бела хлеба пшенична, еже от святыя просфиры <…>» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 280]; ср.: [Клосс 1998. С. 298]. После пострижения от Митрофана «пребыстьже блаженный въ церкьви седмь дний, ничто же вкушая, точию просфиру, оную же от рукы игумена взят <…>» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 302]; ср.: [Клосс 1998. С. 311] [542].
Повествование о встречах и борьбе Сергия-монаха с вредоносными силами разделено на три главных эпизода, подобно другим событиям его жизни. Это приход бесов с самим дьяволом в церковь перед заутреней: нападение бесов на Сергия в хижине святого, сопровождаемое угрозами и понуждением покинуть выбранное место; появление медведя, который, «акы некый злый длъжник» ([ПЛДР XIV–XV 1981. С. 312]; ср.: [Клосс 1998. С. 316]), в течение года приходил к святому за куском хлеба. Происки бесов и приход зверей поставлены в Житии в единый синонимический ряд, причем число синонимов в нем — три: «Овогда убо демоньскаа кознодейства и страхования, иногда же зверинаа устремлениа <…>» [ПЛДР XIV–XV 1981. С. 312]; ср.: [Клосс 1998. С. 316]. Трем встречам Сергия со священниками, узнающими в нем великого святого, контрастно соответствуют три встречи с носителями зла или опасности.
Тройные повторы обнаруживаются в тексте и далее.
Трижды Сергий совершает исцеления и воскрешение: воскрешает умершего отрока, исцеляет бесноватого вельможу и больного, жившего недалеко от Троицкой обители. Трижды проявляет Сергий в Житии прозорливость: когда мысленным зрением видит епископа Стефана Пермского, проходящего в нескольких верстах от Троицкого монастыря; когда узнает, что слуга князя Владимира Андреевича попробовал брашна, посланные князем в обитель; когда духовным взором видит все происходящее на Куликовом поле. Трижды по Божией воле привозят сладостный хлеб в монастырь, когда черноризцы испытывали недостаток в еде.
Три раза повторяется в описании жизни Сергия и мотив вкушения им хлеба: отрок Варфоломей-Сергий вкушает чудесный хлебец, который дает ему таинственный священник; Сергий работает за решето гнилых хлебов, которые составляют его дневную пищу; Сергий и другие монахи едят привезенные в монастырь сладостные хлебы.
Три чудесных видения Сергия-игумена составляют в Пространной редакции Жития отдельные главки: видение ангела, служащего литургию в храма вместе с Сергием; посещение Сергия Богоматерью, которая обещает заботиться об основанном им монастыре, и явление огня, осеняющего алтарь во время литургии, которую служит Сергий.
Наконец, на протяжении всего Жития рассказывается о трех чудесных явлению Сергию божественных сил: это ангел в образе старца-священника, дарующий отроку Варфоломею «книжное разумение»; это ангел, служащий Сергию на литургии; и это Богоматерь с апостолами Иоанном и Петром.
В триады соединены и образы монахов. Прежде всего это триада «Сергий — его старший брат Стефан — племянник Стефана Феодор», а также «мистическая группа» [Федотов 1990. С. 148] учеников Сергия — Симон, Исаакий и Михей. В Житии также упоминается о духовном общении Сергия с митрополитом Алексием и со Стефаном Пермским [543].
Тернарные структуры, имеющие символический религиозный смысл, — отнюдь не отличительная особенность именно Жития Сергия Радонежского. Они характерны, например, еще для Жития Феодосия Печерского — первой русской агиобиографии [544]. Тремя плачами — пермских людей, пермской церкви, и «инока списающа» — завершается написанное Епифанием Премудрым Житие Стефана Пермского. По словам Й. Бёртнеса, концовка этого жития «разительно отличается от соединения похвалы и описания посмертных чудес, которое обыкновенно завершает житие святого». По мнению исследователя, эта особенность может объясняться тем, что Житие было составлено Епифанием еще до канонизации Стефана, и тем, что агиограф мог ориентироваться на княжеские жития, имеющие сходное завершение [Bortnes 1984. Р. 326]. Между тем такая концовка может быть связана и с установкой Епифания на выражение троичного догмата в самой форме жития.
Но в сравнении с другими агиобиографиями Житие Сергия Радонежского отличает «перенасыщенность» тройными повторами, имеющими символический смысл. При этом прежде всего в триаду выстраиваются те события жизни святого, число которых было таковым на самом деле — крещение, пострижение и принятие игуменства Сергием. Однако эта «реальная», заданная самой жизнью и неизбежная для жизнеописания любого преподобного триада в Житии маркирована с помощью дополнительных общих элементов, встречающихся во всех трех эпизодах. С другой стороны, носителем семантики в тексте становится и план выражения как таковой. Так, из многочисленных бесовских угроз и приходов диких зверей к Сергию выбраны лишь три случая; то же самое, по-видимому, можно сказать и о триадах Сергиевых чудес, и о выделении триад среди троицких иноков, и — тем более — о организации диалогов по принципу триады. Епифаний выступает в роли книжника, лишь фиксирующего мистическое присутствие Святой Троицы в жизни Сергия. Он подобен иконописцу, который «не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом примирно, сущего образа: не накладывает краски на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его, „записи“ духовной реальности» [Флоренский 1996. С. 383–384]. В то же время его роль активна, а его текст как бы предстает художественным произведением par excellence. Для Жития характерны и «интимный характер связи между референтом, означаемым и означающим», и «совпадение всех структурных уровней по рисунку структуры» — черты, присущие эстетическому сообщению [Эко 1998. С. 81–84].
И фразовый, и надфразовый уровни текста в Житии содержат тройные повторы, обозначающие присутствие Святой Троицы, ее таинственное водительство в жизни Сергия. Эта же семантика эксплицирована в разъяснениях агиографа [545].
Тем самым снимается оппозиция «форма — содержание», а события и их знаки в тексте не различаются, что вообще характерно для средневекового сознания. При этом о тайне Сергия и о тайне Святой Троице говорит не агиограф, но как бы сам текст и сама жизнь.
Анализ Жития Сергия Радонежского позволяет дать один из частных ответов на поставленный Ю. М. Лотманом вопрос: как может сохранять информативность текст, подчиненный жесткому канону (к числу таких текстов, естественно, относятся жития)? Ю. М. Лотман видел функцию таких текстов в сообщении реципиенту кода, с помощью которого тот мог реинтерпретировать другие тексты (в том числе окружающий мир и собственные представления). Но для этого не требуется наличия большого числа текстов (а на самом деле их немало), и потому Ю. М. Лотман полагает, что каноническое искусство содержит не только коды, но и новые сообщения. По мысли исследователя, эти новые сообщения возникают благодаря тому, что при создании текстов происходит нарушение правил, декларируемых традиционалистскими культурами (см.: [Лотман 1992а]; [Лотман 1992б]). Однако такая интерпретация грозит нивелировать различие между традиционалистскими и антитрадиционалистскими культурами. Более типичны для культур, ориентированных на канон, вероятно, иные случаи.