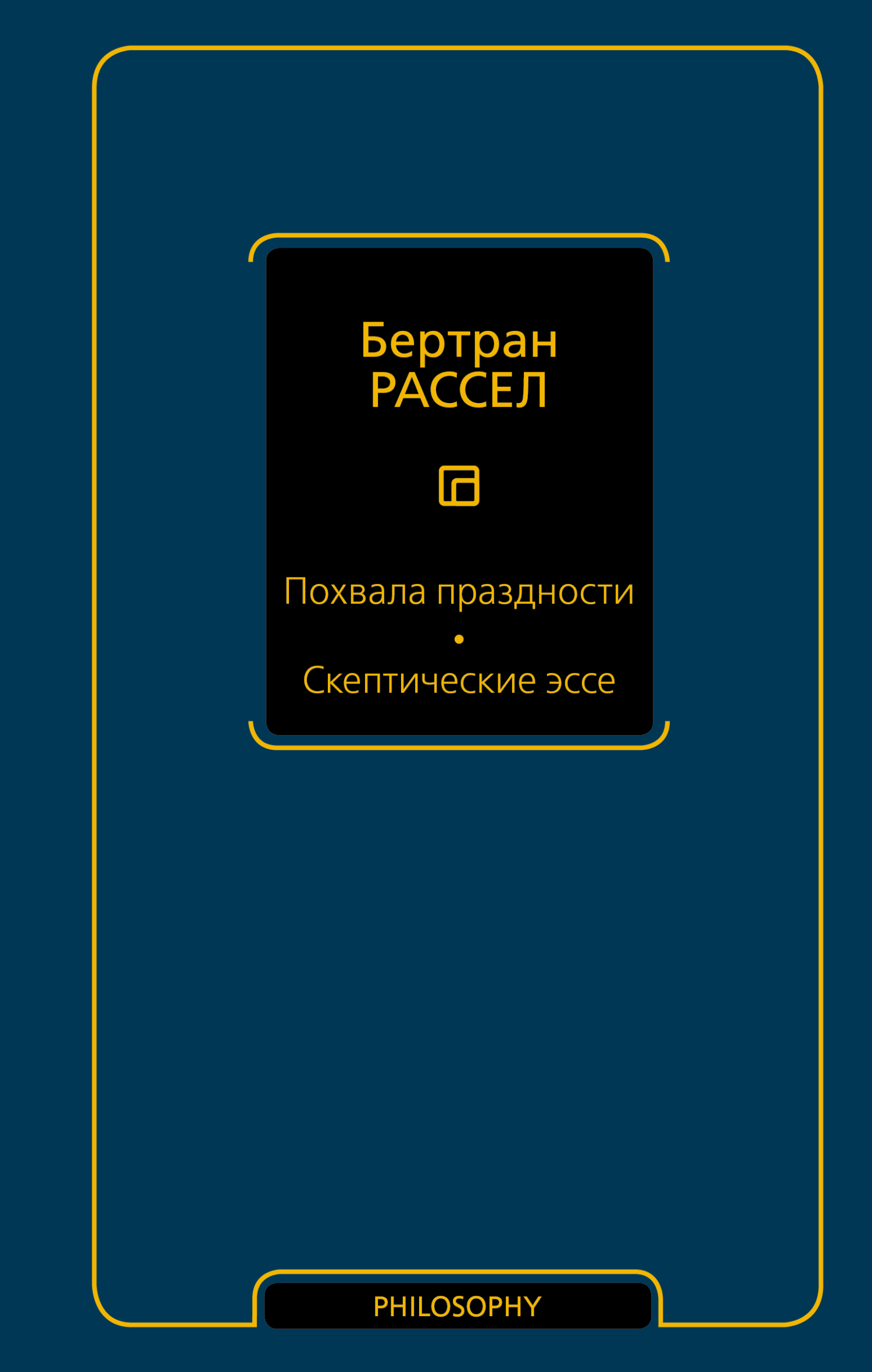вы, французы, смирные и послушные». Позднее Фихте, правда, уверял, что под «я» подразумевал «Бога», только его читателей это до конца не разубедило.
Сбежав из Берлина после битвы при Йене, Фихте усомнился, не слишком ли перестарался с утверждением «не-я» в лице Наполеона. По возвращении в 1807 году он прочел свои знаменитые «Речи к немецкой нации», впервые изложив националистическую идеологию. «Речи» начинаются с утверждения, что немцы превосходят всех остальных современников, так как сохранили чистоту языка. (О том, что у русских, турок и китайцев, уж не говоря об эскимосах и готтентотах, языки тоже без примесей, в исторических трудах Фихте не упоминается.) Чистота немецкого языка делает немцев единственной нацией, способной глубоко мыслить. В заключение он говорит, что «иметь характер и быть немцем, вне всяких сомнений, означает одно и то же». Для того чтобы уберечь немецкий характер от разлагающего иностранного влияния и обеспечить целостность немецкой нации, необходим новый вид воспитания, которое «сплотит немцев в единый монолит». Это новое воспитание, поясняет Фихте, «должно состоять в том, чтобы полностью уничтожить свободу воли», и добавляет, что воля «составляет основу человека». Кроме того, всю внешнюю торговлю следует свести к абсолютно необходимому минимуму. Нужно ввести всеобщую военную обязанность: каждый должен воевать, причем не ради материального благополучия, не за свободу и не в защиту конституции, а в порыве «всепоглощающего пламени высшего патриотизма, которым нация объята как покровом вечности и ради которого благородный человек с радостью пожертвует собой, а плебей, существующий не иначе, как для блага других, тем более должен принести себя в жертву».
Постулат о том, что «благородные» выполняют назначение человечества, а «плебеям» не положено ни на что претендовать, выражает суть современных нападок на демократию. Согласно христианскому учению, каждый человек имеет бессмертную душу, и в этом отношении все равны; «права человека» – не что иное, как развитие доктрины христианства. Утилитаризм, отрицающий наличие абсолютных «прав» у личности, все-таки придавал одинаковое значение счастью каждого человека, тем самым подводя к демократии так же, как и доктрина естественных прав. Фихте же (подобно лорду Кальвину, только в политике) выделил определенных людей как избранных и решил не брать в расчет остальных.
Сложность, конечно, состояла в том, чтобы определить, кто же избранный. В мире, всецело принимающем доктрину Фихте, каждый возомнил бы себя «благородным» и вступил бы в партию себе подобных, разделяющих похожее «благородство». Такими людьми могла стать нация, как у Фихте, или класс, как в случае пролетарских коммунистов, или собственная семья, как у Наполеона. У «благородства» нет объективных критериев, кроме военных побед, следовательно, из этого кредо неминуемо вытекает война.
Философия Карлейля главным образом отталкивалась от идей Фихте. Только Карлейль привнес кое-что свое, ставшее неотъемлемой особенностью этой школы: этакий налет социализма и заботы о пролетариате, на самом деле маскирующий ненависть к индустриализации и нуворишам. Карлейлю удалось обмануть даже Энгельса, удостоившего его самой высокой похвалы в своей книге об английском рабочем классе 1844 года. Стоит ли удивляться тому, что социалистический фасад в национал-социализме ввел в заблуждение стольких людей?
Карлейль, кстати, до сих пор продолжает дурачить многих, для кого «культ героя» звучит очень привлекательно. Мы нуждаемся, говорит он, не в избранном парламенте, а в «королях-героях и геройстве остального мира». Чтобы понять этот постулат, необходимо изучить его на практике. В книге «Прошлое и настоящее» Карлейль приводит в пример аббата Самсона двенадцатого века, однако любой, не желающий принимать его выбор на веру, прочитав «Хроники Джоселина де Бракелонда», обнаружит, что брат Самсон был беспринципным мерзавцем, сочетавшим в себе пороки деспотичного землевладельца и мелочного крючкотворца. Остальные герои Карлейля по меньшей мере так же сомнительны. Учиненная Кромвелем резня в Ирландии удостоилась следующего замечания: «Во времена Оливера, скажу я вам, вера в Божью кару еще не угасла, во времена Оливера еще не болтали об “упразднении высших мер наказания”, о жан-жаковской филантропии, и нынешняя повальная сентиментальность ничуть не менее порочна… Так смешать Добро и Зло без разбора в однородную приторную кашу могло лишь последнее декадентское поколение». О большинстве других карлейлевских героев, таких как Фридрих Великий, доктор Хосе де Франсия и губернатор Ямайки Эйр, можно лишь сказать, что объединяла их жажда крови.
Тем, кто по-прежнему относит Карлейля к либералам, достаточно прочесть главу о демократии в книге «Прошлое и настоящее». Большая ее часть занята восхвалением Вильгельма Завоевателя и описанием счастливой жизни подневольных того времени. Затем автор дает определение свободе: «Истинная свобода человека в том, чтобы найти, по собственной воле или принудительно, правильный путь и следовать по нему». После чего он заявляет, что демократия «означает, что люди отчаялись найти Героев, которые управляли бы ими, и просто смирились с их отсутствием». Глава заканчивается красноречивым пророческим утверждением о том, что, когда демократия исчерпает свое существование, великая проблема останется: «найти руководство Истинно-Высших!» Есть ли тут хоть одно слово, под которым не подписался бы Гитлер?
Менее категоричный Мадзини не разделял восторга Карлейля по поводу героев. Для него объектом поклонения была нация, а не отдельная великая личность, и хотя превыше всех он ставил Италию, он признавал важную роль других европейских наций, кроме разве что ирландцев. Зато Мадзини, подобно Карлейлю, верил в первичность долга перед счастьем, пусть даже коллективным. Он считал, что Бог открыл совести каждого, как следует поступать, и всем осталось только подчиниться нравственному закону, продиктованному сердцем. Ему и в голову не приходило, что у каждого может быть собственное представление о нравственном долге или что кто-нибудь станет требовать от других подчинения своему откровению. Мадзини ставил мораль превыше демократии: «Простое изъявление воли большинства не должно давать большинству верховенства власти, если явно противоречит высшим нравственным заповедям… воля народа священна, когда подчиняется и действует согласно закону морали, однако ничтожна и бессильна, когда отмежевывается от закона и выражает лишь капризы». Того же мнения придерживался и Муссолини.
С тех пор эта школа дополнилась лишь одним важным элементом, а именно: псевдодарвинистской верой в «расу». (Фихте, как мы помним, объяснял верховенство Германии развитием языка, а не биологической наследственностью.) Ницше, в отличие от своих последователей, не был ни националистом, ни антисемитом и применял эту доктрину в отношении отдельных людей: он хотел запретить непригодным индивидам размножаться и надеялся, наподобие собаководов, вывести расу суперлюдей, в чьи руки перейдет вся власть и ради чьего благополучия заживет остальное человечество. Зато все последующие авторы с похожими взглядами доказывали, что превосходство присуще сугубо их собственной расе. Ирландские профессора писали целые книги, доказывающие, что Гомер был ирландцем; французские антропологи откапывали свидетельства того, что цивилизацию в