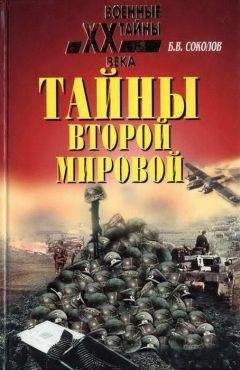В связи с традицией летоисчисления от рождения Христа детям в западных культурах жизнь Иисуса неизбежно преподносится как центральное, уникальное историческое событие. Это может вызывать у них в очень раннем возрасте проблемы, подобные той, которую средневековая Церковь разрешила с помощью легенды о Сошествии во Ад [308] [309] . В наших записях мы обнаруживаем, что Бен (3 г. 10 л.), услышав, что Иисус «сказал людям, как быть хорошими», на следующий день спросил: «Кто смотрел за Лондоном до Иисуса Христа?» [ДЗ 54]. (Примечание к записи: смотреть за = говорить, чтобы были хорошими; Лондон = люди.) В этом вопросе подразумевается линейная концепция исторического времени.
Св. Августин гипотетически заключил, что время субъективно [310] . Имеет ли время для современного физика объективную основу, позволяющую избежать субъективности и социо-религиозной коннотации? Это не простой вопрос. Обратимся к физической проблеме градуирования времени. Физик говорит нам следующее:
...
Если мы принимаем чисто относительную меру времени в единицах определенных феноменов, это позволит нам упорядочить феномены во времени, но совершенно необязательно – измерять промежутки времени вне этого порядка. Лунные циклы не абсолютно одинаковы, как и циклы вращения Земли. Атомные часы основаны на идее, что все атомы данного элемента ведут себя одинаково, независимо от места и эпохи. Базисная шкала времени принципиально связана с нашей концепцией универсальных законов природы [311] .
Однако не что иное, как теология, явилась источником, из которого наука первоначально заимствовала концепцию универсального природного закона. Нидхэм [312] считает сомнительным, что наука могла достигнуть своего теперешнего уровня развития, не пройдя теологическую стадию; более того, на этой стадии теология должна была быть не расплывчатым общим образом мысли, а именно той теологией, из которой на самом деле выросла западная наука. Измерение времени далеко продвинулось уже в Вавилоне, но там оно оказалось нерасторжимо связано с астрологией и иррациональным детерминизмом, которого избегали еврейские пророки. «Когда мы читаем в псалмах, что небеса возвещают славу Божью и свод небесный являет Его труды, мы слышим голос, который ниспровергает верования египтян и вавилонян» [313] , потому что для них сами небеса были богами, а отнюдь не свидетельством трансцендентных божественных законов.
Таким образом, Нидхэм, следуя Комте (Comte), говорит о теологической стадии, но в связи с теориями времени он утверждает нечто большее: «Странно, насколько близко научному мышлению часто оказывалось теологическое» [314] . Несомненно, Бернард (Bernard) прав в том, что три стадии Комте сосуществуют в индивиде, и теологическая стадия дает импульс научному исследованию, воздействуя помимо самых поверхностных уровней. Физическая концепция времени детерминирована как культурно, так и объективно, – она представляет собой особое социологическое явление. Как известно, время по Ньютону отличается от времени по Эйнштейну; первое – наверняка, а второе – вероятно (по меньшей мере пока, при современном состоянии науки) отличается от любой концепции времени, которая могла бы служить базисом нейрофизиологической теории [315] . Ньютоново время не годится биологу, поскольку оно не однонаправленно и поскольку, в принципе, движение и динамические процессы, подчиняющиеся законам Ньютона, обратимы. Время органических процессов необратимо. Оно – среда, в которой происходит движение от зачатия или клеточного деления к распаду, но никогда – в обратном направлении.
По-видимому, все живые организмы обладают внутренними часами, обеспечивающими им отношения со временем, – более примитивные, чем те, что обусловлены перцептивными или когнитивными процессами. Фазы жизни имеют свои временные нормы, действие которых непреодолимо, как импульс, отправляющий птицу в сезонный перелет. В примитивных обществах и в древних цивилизациях, где изменение воспринималось происходящим не непрерывно, а в дискретном циклическом ритме, путь человека по жизни тоже виделся как последовательность отдельных стадий, и начало каждой стадии должно было быть отмечено ритуалом. Эти церемонии, или rites de passage [316] [317] обнаруживают поразительное межкультурное сходство. Внутренние часы не только призваны были сигнализировать о таких специальных событиях. Они более точно регистрируют ход космического времени, чем человеческое сознание без помощи инструментов; обнаружено, что люди, находясь в гипнотическом трансе, оценивают время более точно, чем в нормальном состоянии.
Можно предположить, что эти «внутренние часы» участвуют в процессах обусловливания, включающих рефлекторные реакции, которые, как я уже говорила, не связаны с восприятием причинно-следственных отношений. Аналогично и действие внутренних часов можно считать независимым от какой-либо концепции времени, но если принять теорию Гийо, то получается, что они могут создавать основу для восприятия времени. Гийо [318] полагал, что идея (или восприятие) времени порождается наполненным активностью интервалом между желанием и его удовлетворением: младенец, который сучит ножками и кричит в ожидании пищи, научается различать длительности через ощущения, вызываемые разными степенями напряжения и усталости. Пиаже [319] считает, что восприятие времени начинается в процессе манипуляции объектами, и первоначально время приписывается объекту. Эти две точки зрения могут быть совместимы. Время, воспринимаемое по Пиаже, может являться физическим (ньютоновым) временем – функцией объективно наблюдаемых массы и скорости, а время, воспринимаемое младенцем по Гийо, может быть подобно более примитивному времени древних цивилизаций, в котором последовательности событий рассечены на настоящее, с его характерной аффективностью, и ожидаемое будущее с его противоположным переживанием завершенности, удовлетворенности.
Гийо заключает: «Il faut désirer, il faut vouloir, il faut étendre le main et marcher, pour créer l'avenir. L'avenir n'est pas ce qui vient vers nous, mais ce ver quoi nous allons» [320] . Бергсон, современник Гийо, также подчеркивал активную роль человека в определении будущего. Гийо далее добавляет, что намерение и сопутствующее ему усилие – первый источник идей действующей причины и конечной причины. Но отношение между причиной и временем – (крайне интересная) тема, которая выходит за рамки данного обсуждения; в любом случае, автор не обладает необходимой для нее философской и математической квалификацией.
О Бергсоне сказано: как сын XIX века, он считал, что всякая подлинная мысль есть мысль о становлении вещей, поскольку длительность – это единственная реальность, а как для философа XX-го века для него становление означало уже не изменяемый, но изменяющийся [321] . «Существовать значит изменяться; изменяться значит созревать; созревать значит бесконечно творить себя». Согласно Пуле, оригинальный вклад Бергсона заключался в его утверждении, что длительность есть не что иное, как история или система законов, – это свободное творение. «Каждое мгновение человек действует, творит свое действие, а вместе с ним… себя и мир».
Такая позиция преодолевает боль беспомощной зависимости от жестоких или равнодушных сил, однако на смену приходит боль ответственности за постоянное творение себя путем уничтожения детерминизма, заложенного в природе вещей. Это экзистенциалистская позиция. Паскаль имел дело с данной проблемой и разрешил ее для себя способом, характерным для его времени в отношении к концу, к цели, и для нашего времени – в выводах по поводу действий в переходный момент:
...
Каждое мгновение вырывается из непрерывности, понимаемой как… выстроенной в линию, протянутую из прошлого в будущее. Каждое… должно переживаться не согласно знанию об историческом развитии, приведшем к нему, а как осознаваемое пророческое мгновение, в согласии с конечным итогом, который есть Бог и жизнь вечная. Трагедия и абсурд человеческой ситуации состоят в том, что человек, по всей видимости, не способен отречься от своего настоящего и выбрать вместо него будущее. И из всего этого я заключаю, что должен проводить все дни моей жизни, не думая о том, что предстоит мне после нее… Я хочу идти, не продумывая заранее свой путь и без страха испытать великое событие, я буду пассивно приближаться к смерти, отдавшись неопределенности моего будущего состояния [322] .
Для Паскаля, как, несомненно, и для Кьеркегора, проект свободы основывался на непрерывности процесса движения из прошлого в будущее, из которой надлежало вырваться. Вероятно, начало аномии [323] приходится на период после Французской Революции, когда, как писал Бенжамен Констан (Benjamin Constant), настоящее стало казаться «настолько близким к небытию… настолько бессвязным, изолированным, не позволяющим ни за что ухватиться, что в нем невозможно найти что-либо, могущее сделать нас счастливее». И – в словах, еще более приложимых к человеческой ситуации в середине двадцатого столетия: «Мы – мертвые, которые, как у Ариосто, из привычек своей жизни сохранили только привычку бороться, придающую нам видимость мужества, поскольку мы храбро рискуем жизнью, которой у нас больше нет» [324] .