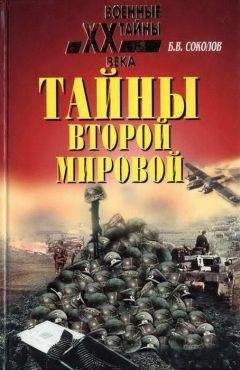В России девятнадцатого века вокруг этой темы как этического центра развилось то, что получило название наполеоновского комплекса. Толстой в «Войне и мире» попытался уменьшить гигантское обаяние славы Наполеона, которого он считал ответственным за убийство тысяч своих соотечественников. Сверхъестественно проницательный Достоевский показывает Раскольникова временно одержимым мыслью, что ««необыкновенный» человек имеет право… разрешить своей совести перешагнуть… через… препятствия» ради исполнения своей идеи о лучшем будущем для человечества, пусть даже это требует «перешагнуть… через кровь», устранить десяток или сотню людей. Такой человек (но только такой) абсолютно вправе совершить это в соответствии с диктатом своей совести. Друг Раскольникова возражает:
...
– Ну, брат… Ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали; но что действительно оригинально во всем этом… это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь… это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное» [410] .
Как и сказал Разумихин, это действительно не было новой теорией. В условиях войны это даже не было новой практикой: многие завоеватели «шли через кровь», намереваясь обеспечить человечеству или какой-то его части новое будущее. Но есть две вещи, которые придают этой идее новый поворот, новый контекст и превращают ее из ретроспективной в пророческую для времени Достоевского. Убедив себя, что свобода от ограничений совести (в прежней интерпретации) является знаком превосходства, Раскольников совершает убийство отчасти для того, чтобы убедиться в своей принадлежности к классу свободных. Во-вторых, устранение других людей оказывается позволительно и внутри сообщества, в которое включен великий человек, поскольку эти другие – не социальные или личные враги, а просто объекты, лишенные права быть ценными в качестве обычных человеческих существ и служащие выражению и применению его власти. В этом отношении Гитлер и Сталин, в отличие от Наполеона, воплощали новую этику.
Процесс утверждения собственной личности посредством убийства, которому следовал в своем безумном состоянии Раскольников, отображен в романах Жида и Камю на своей последующей психологической стадии: чтобы обрести хоть какую-то личностную уверенность, герои убивают безразличного им человека; и убийца, и жертва деперсонализированы. И тогда только смерть кажется имеющей какую-то реальность, впрочем, довольно малую; жизнь – «история, рассказанная идиотом, не означающая ничего».
Достоевский устами Раскольникова и Фрейд в переписке с Эйнштейном говорят о роли, выполняемой в войне ведомыми массами, – которые, разумеется, как раз и занимаются непосредственным убийством. Наука пока едва прикоснулась к изучению личностных вариаций в этом аспекте. Мы обнаруживаем конформного Эйхмана на одном конце шкалы и отклоняющегося от нормы Зигфрида Сэссона – на другом [411] . Что касается науки, то сначала нужно заложить основу таких исследований. Никакие прямые упоминания смерти или войны не обязательны. Главный вопрос: в принципе склонны ли люди (в демократических и в более авторитарных обществах), говоря словами Фрейда из письма к Эйнштейну в 1932-м, «безропотно подчиняться решениям» тех, кого они принимают как обладающих авторитетом, как лидеров.
Люди, готовые, следуя авторитетному указанию, причинять жестокую боль, могут, предположительно, пойти дальше. Мильграм [412] , используя авторитет ученого Йельского университета, провел исследование покорности взрослых на выборке, репрезентативной относительно образовательного уровня, профессионального статуса и возраста. В лабораторном эксперименте по научению и наказанию испытуемым была дана инструкция: применять (фальшивый) электрический шок возрастающей силы к (подставным) взрослым учащимся, если «ученики» будут давать неправильные ответы на серию вопросов. «Учителям» говорилось, что шок, хотя не вызывает устойчивое повреждение тканей, является крайне болезненным; на дисплее кнопочной панели была отмечена граница «безопасной» интенсивности. На определенной стадии эксперимента «ученик», находившийся в отдельном отсеке вне зоны видимости, якобы получив мощный удар током, колотил по стене, а затем больше никак не реагировал. Если «учитель» в этот момент спрашивал, что ему делать, ему говорили продолжать давать электрошоки возрастающей силы, если не будут поступать правильные ответы, – которые, естественно, не поступали.
При планировании эксперимента ряд психологов ожидал, что лишь немногие испытуемые станут применять шоки до самого конца серии, когда их дисплеи покажут опасно высокий уровень тока. «Учителя» во время эксперимента испытывали видимое сильнейшее напряжение: людей трясло, они заикались, стонали, вонзали ногти в свое тело. Это экспериментаторов удивило; но еще сильнее их удивило то, что более 65 процентов выборки преодолели барьер, за которым шок, как они знали и видели, достигал опасной интенсивности.
Четырнадцать человек, не подчинившихся власти экспериментатора, значительную часть времени находились в сильном возбуждении и даже в гневе или иногда они просто вставали и выходили из лаборатории. Некоторые из послушных испытуемых остались спокойными на протяжении всего эксперимента.
Если это поперечное сечение мужской популяции репрезентировало «массы» Фрейда (и если принимать дихотомию ведущих и ведомых, то, видимо, надо с этим согласиться), то получилось, что только около двух третей могли быть «ведомы» на всем пути предполагаемой пытки других человеческих существ в научных целях. Тем не менее, для экспериментатора была неожиданностью «мощь проявленных тенденций подчинения в ситуации, когда они противоречили тому, что эти люди знали с детства как основополагающий нравственный запрет: нельзя причинять боль другому помимо его воли». Данная серия экспериментов, как должно быть ясно любому психологу, опровергает представление о социальном обусловливании — имеется в виду процесс, в ходе которого, теоретически, ребенку прививается моральный конформизм, – как стандартизованной или прямолинейной процедуре. По-видимому, для сохранения цивилизации должны прививаться подчинение и неподчинение, конформизм и нонконформизм. Большинство этих американских мужчин не являлись потенциальными эйхманами, судя по тому, что они проявляли признаки острого стресса, но те среди них, кто остались спокойными, применяя (фальшивую) пытку, могли бы, получив соответствующие приказы, действительно пытать или убивать без разлада со своей совестью, что, как сказал Разумихин, ужасно.
Казалось бы, род смерти, который может в особенной степени побуждать к научным исследованиям, – это смерть на войне. Одна нация или группа наций принуждает другую к подчинению путем массового убийства тысяч или даже миллионов мужчин, женщин и детей. Это самое ужасное и, с точки зрения будущего, самое пугающее явление в опыте человечества. Но цель, состоящая в убийстве врагов собственной социальной группы, не добавляет ничего нового к концепции смертности или к ее социальной функции. Новое развитие может быть связано с более страстным, отчаянным желанием избежать необходимости убивать или быть убитым, – желанием, связанным с созданием новых методов уничтожения, которые могут поразить не только тех, на кого они направлены.
Стремясь предотвратить войну, человек пытается понять собственную агрессивность. Является ли она биологически предопределенной? Идеи о человеческой агрессивности часто возникают на основе наблюдений животных. Теория человеческого агрессивного импульса, инстинктивного по своей природе, как половое влечение и голод, принималась многими психологами, включая Фрейда, однако некоторые исследователи, среди них Дж. П. Скотт [413] , не соглашаются с ней. В сообществах животных (внутри видов) редко случаются вспышки деструктивного насилия, за исключением ситуаций, когда равновесие в них нарушено в результате деятельности человека. Такие вспышки можно уподобить насилию молодежных банд, глубоко отчужденных от контролирующего сообщества; однако едва ли этот тип поведения близко связан с причинами войны.
Молодые животные могут быть обучены (обусловлены) быть более или менее агрессивными; можно вывести породы с характерным агрессивным или неагрессивным поведением. Однако, по-видимому, с уменьшением агрессивности уменьшается также не сексуальное [414] , но исследовательское поведение. По мнению Эйбл-Эйберсфельдта (Eibl-Eibersfeldt), «это причина, по которой, возможно, опасно пытаться посредством воспитания избавлять человека от его агрессии… [но] вежливость представляет собой буфер для агрессивности… [также может быть полезен] объединяющий религиозный символ. Идентифицируем ли мы себя как часть человечества, – вопрос воспитания» [415] . Имеется в виду воспитание, включающее сознание, а не род тренировки или условно-рефлекторной дрессировки, как со зверем в клетке.