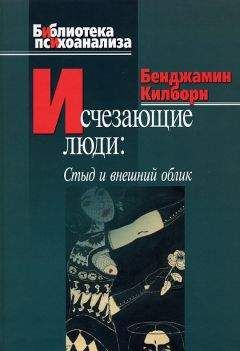Грэм Грин, автор повести «Третий человек», гордился, что смог понять всегда неуловимого и загадочного Филби. Грин известен тем, что отважно защищал Филби в Англии, и, очень вероятно, эта позиция стоила Грину рыцарского звания и даже Нобелевской премии. Но в действительности, возможно, у Филби было еще больше масок, чем Грин изначально предполагал. В то время как Грин считал Филби двойным агентом, работающим на КГБ, он на самом деле мог быть тройным агентом, работающим на англичан, – охваченный этой идеей, Грин исследовал ее перед смертью.
Как и Адам, Грин слишком много выстрадал в чрезвычайно травматичном детстве. Он описывал своего отца-директора как «злобного» и «садистического» и вспоминал редкие визиты матери в круглосуточный детский садик как «режимные посещения». Подвергнутый чрезмерной депривации – равнодушная, отстраненная мать и жесткий отец, с которым можно было иметь дело, только используя уловки, – Грин очень рано развил у себя прихотливое воображение, искажая серьезное, относясь к пустякам как к чему-то важному и достигая, несмотря на обман, какого-то подобия реальности. «Он писал серьезные романы, замаскированные под триллеры, сочинял духовные рассказы, наполненные сомнениями, любовные истории, насыщенные ненавистью, автобиографию, в которой едва упоминаются его жена и дети, книгу о путешествиях, где интеллектуальное путешествие оказывается важнее физического, и пьесу, в которой один из основных персонажей говорит только «да» и «нет»[109].
Более того, название его первого романа «Человек внутри» было взято из трактата Томаса Броуна[110] «Религия Медичи» – «Внутри меня есть другой человек, который на меня зол». Эта мысль имеет отношение как к Адаму, так и к Филби. По сути, Грин написал «Человеческий фактор» о Филби, используя как лейтмотив «ярость личности», тему, позаимствованную у Генри Джеймса. Наверное, наиболее известный пример использования Грином Филби – это «Третий человек», в котором не заслуживающий доверия главный герой, Гарри Лайм, является гибридом самого Грина (Лайм) и Гарольда Филби (Гарри)[111]. События несчастливого детства Грина проявляются в его произведениях в искаженном, но безошибочно узнаваемом виде. Это доказывает, что он, кажется, был способен принять детские воспоминания только смещенными (т. е. с измененными и добавленными деталями): «отстраненная мать, добрый садовник, побег на пруд и остров, вкус свободы и страх в Темной Аллее, хижина»[112] и образ его самого: «мальчик, повешенный над грудой мешков с картошкой», спасенный садовником[113].
Рассмотрим в этом контексте сюжет его короткого рассказа «Ничья шкура медведя». Фаррелла, сильно пьяного молодого человека, некто, притворяющийся его другом, подзадоривает перелететь Атлантику на его маленьком самолете. Его подружка в конце концов ложится в постель с этим псевдо-другом. Фаррелл гибнет в авиакатастрофе, и единственная вещь, уцелевшая при крушении – это плюшевый медвежонок, символ попытки в фантазии создать адекватное окружение, старания обрести в чем-то поддержку, пока мама и родители далеко. Д. В. Винникотт говорил, что плюшевый медвежонок – это наиболее типичный переходный объект, который для ребенка одновременно «я» и «не-я», одновременно мать и не-мать, способ ощущать рядом нечто похожее на мать, на что можно положиться в ее отсутствие[114].
Эдипальный стыд, шпионы и фантазия
Граница между реальностью и фантазией всегда нечеткая, на нее никогда нельзя рассчитывать для поддержания чувства идентичности, особенно если ее подвижность используется в качестве защиты от боли и беспомощности. Шутки ради Грин часто мог разнюхать какой-нибудь реальный факт, как, например, когда предположил, что Беатрис Поттер должна была переживать ужасный кризис во время «Паддл-Дак» периода[115], который, как оказалось, у нее действительно был.
Наоборот, Грин мог взять ужасающие переживания и стереть себя из них, превращая их в пустяк и выставляя напоказ. Он писал о бомбардировках Лондона: «Мне нравились бомбардировки. Было замечательно просыпаться и знать, что ты все еще жив, и слышать звук выбитого стекла в ночи… Во время затемнения можно было видеть звезды, сейчас это абсолютно невозможно в городе»[116]. Замысловатая, таинственная и многозначащая фантазийная жизнь Грина, его способность делать значительное легковесным, скрывать нечто серьезное под обманчивой шуткой – все указывает на отступление в мир воображения от его собственной жизни. Он сказал своей жене Вивьен: «Все, что есть во мне хорошего и ценного, – в книгах. И осталось только то, что осталось»[117].
Говоря о Грине и Филби, Адам рассказывал о собственных фантазиях о невидимости. Он объяснил, что похож на шпиона, который преуспевает благодаря страху и смятению. Шпионы, добавил он, хотят, чтобы сверхдержавы (Соединенные Штаты и Россия) боялись друг друга, и потому были вынуждены выведывать, чем занимается другая сторона. В результате, в обстановке взаимного страха и недоверия, шпионы становятся наиболее влиятельными фигурами, поскольку обладают способностью снабжать врага ложной информацией, сбивать с толку и отвлекать внимание. По существу, шпионы создают недоразумения, указывая людям неверное направление. Однако хитрость, как профессиональное качество, провоцирует тревогу. Адам сказал о Филби:
«Он мог создать путаницу на глобальном уровне, и это значит, что он сам должен был быть сбит с толку. Если вы знаете, где ваше сердце, вы следуете за ним. Но если вы можете одурачить себя, веря, что иногда вы душой с коммунистами, а иногда – с Англией, в зависимости от того, где вам случилось оказаться, тогда вы на самом деле пропали, вы предали все, что было, ради того, что оказалось иллюзией. Потом приходится игнорировать то, что вы предали нечто, и то, что все, ради чего вы это сделали, – далеко не то, что вы хотите. Эта неразбериха позволяет вам предавать всех. От этого мороз по коже. В конце ваших дней этот холод вас поглотит».
В данном случае в основе страхов Адама лежит путаница между фантазией и реальностью, с которой, в свою очередь, может быть связана неразбериха с сексуальной идентичностью, оставление отцом, страх, что отец разоблачит твою негодность, боязнь конкурировать с ним и одержать победу или потерпеть поражение от его руки самым унизительным образом. Все это действует как часть того, на что я указывал как на «эдипальный стыд». Будучи шпионом, Адам рисковал остаться неизвестным как секретный агент, так что он мог быть казнен без долгих рассуждений, и никто этого не заметил бы. Только если, будучи шпионом, он был бы знаменитым секретным агентом, его бы пощадили. Но как знаменитый секретный агент он подвергался риску попасть в свои собственные сети лжи и обмана, а также риску потерять свою душу. Куда бы он ни двинулся, Адам сталкивался лицом к лицу со своим страхом, что он никогда не мог быть тем, кем он был[118].
Признавая выбор в невидимом
У Адама фантазии о невидимости выражали также гневный отказ выглядеть так, как другие (т. е. отец) того хотели. Находясь под угрозой эдипального стыда, Адам нашел убежище в смятении по поводу того, кто он такой. Поэтому он чувствовал себя еще более восприимчивым к опасности капитуляции, если начинал соответствовать желаниям окружающих. Подобные чувства открытого сопротивления ожиданиям окружающих весьма выразительно описаны в романе Ральфа Эллисона «Человек-Невидимка». Главный герой, невидимка, с горечью замечает:
«Они хотели машину? Очень хорошо, я стал сверхчувствительным заверителем их ошибочных представлений, и только чтобы поддержать их убежденность, я был бы именно тем, кем нужно. О, я бы верно служил им, и я бы сделал невидимость доступной чувствам, если не зрению, и они бы узнали, что это может быть и грязное, и гниющее тело, или кусок тушеного мяса… Они были проницательными мыслителями – будет ли это вероломством? Применимо ли это слово к невидимке? Смогли ли они признать выбор в том, что невидимо?..»[119]
Хотя он и был в состоянии избегать неодобрительных взглядов окружающих, человек-невидимка оказался обременен новыми противоречиями. Он не мог просто доказать несостоятельность таких ценностей, как добро и зло, искренность и лживость, зависящих «от того, кому случилось в этот момент смотреть сквозь него»[120]. И он продолжает, говоря о том, что, когда он правдив, он сомневается в себе и его ненавидят, но когда «он попробовал сказать в ответ (своим) друзьям нечто ложное, нелепое, но именно то, что они хотели услышать», он стал любим.
«В моем присутствии они могли говорить и соглашаться сами с собой, мир был поставлен на место, и они любили его. Они получали ощущение безопасности. Но в этом-то и был камень преткновения… Чтобы быть для них подтверждением, я должен был взять себя за горло и душить до тех пор, пока мои глаза не вылезут, а мой язык не свесится, качаясь, как дверь пустого дома на ветру»[121].