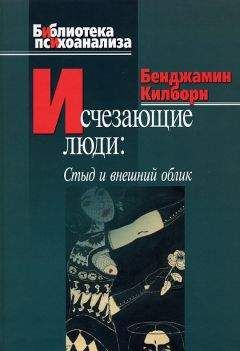Однако выходит не так, как задумано, поскольку лишенный аристократизма Жюрё оказывается слишком серьезным, чтобы Ле Шеснай мог его игнорировать; обычная аристократическая защита Ле Шесная, высокомерное безразличие, просто не действует в отношении Жюрё, который хочет невозможного – получить от ле Шесная разрешение ухаживать за Кристин. Любопытный поворот сюжета приводит к тому, что измена настигает сразу двоих: Ле Шесная, хозяина замка, и простолюдина Шумахера, его рьяного охранника и егеря; удачливым соперником Ле Шесная становится Октав, а Шумахера – Марсо. Но если Ле Шеснай пытается игнорировать сложившуюся ситуацию, то Шумахер, паля из своего ружья во все стороны, гонится за Марсо и Лизеттой, своей женой, а гости разбегаются в поисках укрытия.
Итак, внешне фильм изображает столкновение миров: мира Жюрё, человека, сделавшего себя самостоятельно; мира Ле Шесная и его гостей-аристократов; и мира Марсо, Шумахера и обычных людей. Как говорит незабываемый и величественно тучный повар одной особенно капризной гостье, велевшей ему не солить ее блюда: «Я могу согласиться с правильной диетой, но не с прихотью», – и продолжает щедро посыпать все солью. Ренуар очерчивает расхождение между видением и идеалом себя, с одной стороны (истории, которые рассказывают о себе персонажи друг другу), и реалиями повседневной жизни и положения в обществе, с другой. Кульминацией фильма становится эпизод, названный «Вальпургиевой ночью», когда бушевание хаоса и страстей разбивает иллюзии видимости, а в конце все расставляется по своим местам – как детские игрушки, которые убирают в коробку перед сном.
Фильм начинается с кадров, демонстрирующих толпу, собравшуюся приветствовать народного героя, Андре Жюрё. Движущаяся человеческая масса толкает и вытесняет камеру. Одна репортерша пытается взять у Жюрё интервью, ожидая рассказа о нелегкой борьбе за победу, о колебаниях или страхе – «интересного людям» повествования, передающего впечатления от полета. Но не фиксирует ничего, кроме смятения, вызванного отсутствием встречающей его Кристин.
С самого начала нет никакого или почти никакого соответствия между общественными фантазиями о героизме и поведением нашего героя. Жюрё спускается с небес героем, но на земле оказывается вопиюще не готовым справляться с происходящим вокруг него. Он не испытывает ни малейшего желания признавать «правила игры» и играть по этим правилам. Он смог бы устоять и быть принятым в мире Ле Колиньер, только если бы сыграл свою роль героя и вдохновителя фантазий. Этого он, конечно, сделать не может, поскольку не способен узнать себя в фантазиях о нем других. Как раздраженно огрызается на него Октав (Ренуар): «Вместо того чтобы скромно следовать роли национального героя, ты выказываешь свое волнение, потому что не увидел Кристин». Позднее Октав отмечает, что трагедия Жюрё – это трагедия всех современных героев: «он способен пересечь Атлантику, но не может даже Елисейские Поля перейти иначе как по тротуару»[152]. На земле Жюрё так туп и прямолинеен, что оказывается самым заурядным, неромантичным и скучным из всех гостей, неспособным на малейший всплеск воображения. Когда, наконец, Жюрё предоставляется шанс сбежать с Кристин, он настаивает на том, чтобы сообщить об этом Ле Шеснаю, ее мужу.
Свободные ассоциации и открытая форма
Подход к деталям и относительной значимости в «Правилах игры» поразительно напоминает психоаналитический метод свободных ассоциаций, когда пациент говорит все, что приходит ему в голову[153]. Уравновешенная «свободно парящим вниманием» камера одинаково отмечает и мелкие, и крупные детали. Сцена, когда Октав первый раз просит Ле Шесная пригласить Жюрё, снята через букет лилий, поставленный в вазу. Хотя это намек на чистоту его побуждений, лилии не менее важны, чем то, что он говорит, для того чтобы сообщить о необходимости иллюзии невинности, поддерживаемой Октавом в глазах прочих персонажей вплоть до конца фильма. Ренуаровская техника удержания заднего плана в фокусе также подкрепляет ощущение свободы, с которым зрители могут переходить на разные уровни действия в фильме. Подобно тому, как камера Ренуара фиксирует наложенные друг на друга действия, аналитик стремится обращать внимание на все, что пациент говорит (или не говорит), поглощенный изгибами и поворотами свободных ассоциаций, думая про себя: «Сейчас важно это», а затем – «Нет, вот это».
Луис Менанд[154] отмечает, что технический термин для этого свойства в фильмах, подобных «Правилам игры», – «открытая форма».
«Камера направляет свой взгляд с равной эмпатией на каждую грань наблюдаемого мира. Обычное не обрезается и не просматривается мельком, поскольку боги, если они есть, существуют, вероятно, в деталях; но великое тоже не помещается в кавычки и не воздвигается только лишь для низвержения, поскольку возвышенные эмоции – столь же значимая часть жизни, как и все остальное. Дверь открыта в мир «как он есть», без ширм или инсценировок; и этот мир в конце оставляют в том же состоянии, неупорядоченным и не разложенным по полочкам моралью».
Камера умышленно избегает значимых намеков и упрощения; она следует за всеми элементами и фрагментами повествования, куда бы они ни двигались, как она следует за болтиком из механического соловья, который нечаянно роняет на пол Ле Шеснай, проходя через зал[155]. Детали представлены как фрагменты и сегменты реальности, равно малые и равно незначительные, так что невозможно сказать, что действительно окажется важным позднее, по мере развертывания истории. Мелочи становятся важными. Многозначительные комментарии выглядят совершенно формальными. Подвижная шкала событий, как внутренних, так и внешних, придает фильму оттенок воображаемого и позволяет нам ощутить, что мы как зрители обладаем силой превращать большое в малое и малое в большое, просто полагая их таковыми.
Фильм пронизывает по-настоящему зловещая тема: рост нацизма и отрицание грозящих миру опасностей (как внутренних, так и внешних). Картина была снята в 1939 году, накануне войны, когда многие отказывались признавать встающие на горизонте опасности. Большинство увидевших картину людей в 1939 году восприняли фильм с «неприкрытым отвращением»[156]. Объясняя этот факт, Ренуар отмечает, что никому не нравится изображение людей, «танцующих на вулкане», и добавляет: «Они узнавали себя. Люди, которые совершают самоубийство, не стремятся сделать это при свидетелях». Мрачная тень войны падает на буффонаду Октава, на его гниловатую обольстительность при выработке плана бегства с Кристиной, на обольщение им жены Шумахера.
О маскировке, механизмах и музыкальныx шкатулках
Такой подход «открытой формы» к операторской работе, к актерской игре и режиссуре в терминах «свободно парящего внимания» позволяет зрителям отдаваться моменту, воображая, что будет дальше. Благодаря этой технике Ренуар отслеживает долю каждого персонажа в поддержании образа себя. Ни один персонаж не искренен, ни один не является полностью тем, кем выглядит; у всех есть причины контролировать, как их видят другие. Например, после смерти Жюрё молодая женщина примерно его возраста, которая с самого начала, очевидно, была в него влюблена, заливается слезами. Кристин делает ей замечание, говоря, что она должна собраться, поскольку «люди смотрят». Но зрители тоже смотрят.
Как и в мире Пиранделло, тот факт, что невозможно избежать наблюдателей, приводит к обману и маскам. И также он приводит к импульсу клоунствовать. Когда Пиранделло сообщили, что он получил Нобелевскую премию, и фотографы попросили его позировать за пишущей машинкой, что заняло немало времени, он целые страницы заполнил словомpagliaccetta (клоунада).
В сценических ремарках к «Шести персонажам» Пиранделло распоряжается, чтобы персонажи носили маски.
«Персонажи должны появляться не как призраки, а как реальные воплощения, как незыблемые порождения фантазии. /…/ Маски помогут создать впечатление, что это фигуры, сотворенные искусством, причем каждая из этих фигур будет выражать одно неизменное, присущее только ей чувство: Отец – угрызения совести, Падчерица – мстительность, Мать – страдание (восковые слезы у глазниц.)»
И в этих ремарках отражается большое значение масок в пьесах Пиранделло. Генриху в «Генрихе IV» вообще очень трудно собраться; он интенсивно красит волосы и пластами накладывает румяна на щеки. Донна Матильда отмечает, что на своем портрете в юности она выглядит более похожей на свою дочь, чем на саму себя.
В «Правилах игры» все гости, жаждая развлечься, надевают маскарадные костюмы. На фоне марша Моцарта запускается адская машина. Пока гости подбираются к охваченному смертоносной ревностью Шумахеру, бегающему по замку и неистово стреляющему в Марсо, Октав яростно пытается найти кого-то, кто помог бы ему избавиться от костюма медведя[157]. Навязчивым символом отчаянных попыток замаскировать и выставить на потеху то, что никто не контролирует, становится пианино, играющее само по себе. Сначала на пианино играет самая видимая гостья – самая видимая, поскольку самая тучная. Но потом она откидывается назад, исчезает из поля зрения, камера наплывает на клавиши, и уже не видно, кто на них играет.