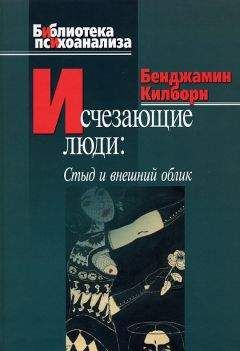Первый осколок, чистый, вытесненный аффект, ведет себя «как ребенок в обмороке, совершенно не осознающий себя». Ференци считал, что аналитик должен был направить рефлексивные силы пациентки на этот осколок для того, чтобы он появился в сознании как воспоминание шока.
Второй, материнский осколок, «играет роль ангела-хранителя… продуцирующего галлюцинаторное удовлетворение», что убивает боль «путем выдавливания какой-либо психической жизни из бесчеловечно страдающего человеческого тела».
Третий осколок – «бездушная часть» (убитое Эго, пепел ранних душевных страданий), чья дезинтеграция не воспринимается вовсе или рассматривается как событие, происходящее с кем-то другим, как наблюдаемое со стороны» (Клинический дневник).
Опыт расщепления у серьезно травмированных пациентов может быть отнесен как к переживаниям базовой ошибки (basic fault) (Balint, 1968), так и к сознательным чувствам «омертвелости». Задолго до Шенгольда Ференци писал, что чувства «безжизненности» совершенно отрезаны от переживаний раскалывания на куски, а также писал о провале попыток найти или собрать эти осколки. Остается лишь «бездушная часть», отрезанная от остальной части Я, находящаяся в положении безжизненности из-за того, что задушена фантазийным «материнским осколком». Под «материнским осколком» Ференци имел в виду садистическую мать, садистический, жестокий и безжалостный материнский частичный объект.
То, что пациенты описывают как чувство омертвелости или как мертвые части себя, похоже на описание чувств небытия и бесчувствия, вызывающее в памяти описание Кьеркегором в книге «Болезнь к смерти» отчаявшегося Я, которое только может строить воздушные замки и общаться с воображаемыми собеседниками, в то время как по сути оно – ничто. Это чувство небытия скрыто так глубоко, что оно становится еще более ужасающим, отупляющим и изгоняющим осознание. «Не только желание и успешные усилия, чтобы скрыть эту болезнь от того, кто ею страдает, не только то, что эта болезнь может гнездиться в человеке и никто, ровным счетом никто этого не заметит, – нет! – пишет Кьеркегор. – Но прежде всего как раз то, что она может так прятаться в человеке, что он и сам об этом не подозревает!» (Кьеркегор. «Болезнь к смерти», в кн. С. Кьеркегор «Страх и трепет», М., 1993).
Такое вытеснение или отрицание может не замечаться, поскольку это часть фантазийной системы, которая может поработить все мышление. Кьеркегор пишет: «Все, что имеется в человеке от чувства, знания и воли, в конечном счете зависит от того, сколько в нем имеется воображения, иначе говоря, от способа, каким отражаются все эти качества, проецирующие себя в воображение» (там же). Это, по-моему, абсолютно критический момент, связанный с Я-представлением и оценкой собственного самоуважения (Kilborne, 1995, 1999). Так, заключает он: «Худшая из опасностей – потеря своего Я – может пройти у нас совершенно незамеченной, как если бы ничего не случилось. Ничто не вызывает меньше шума, никакая другая потеря – ноги, денег, женщины и тому подобного – не остается настолько незамеченной» (там же).
Травма, расщепление и стыд
Цель анализа – проработать уровни стыда, которые не дают расщеплению и чувствам собственной ничтожности стать осознаваемыми. Спутанность и переживание себя иным, в зависимости от того, с кем находишься, приводит к стыду и избеганию. Такая спутанность часто тесно связана с ощущением дефективности, неспособности любить. За этим стоит нестерпимое чувство собственной ничтожности в сочетании с ужасом от невозможности сообщить о том, кем ты являешься, – чувства, глубоко похороненные и находящиеся вне терапевтической доступности до тех пор, пока аналитик не сделает их доступными через анализ сопротивлений стыда, которые возникают в переносе.
Когда эти чувства начинают возникать в сознании в присутствии аналитика, результатом часто является мучительная боль и ранимость, усиленная стыдом, к которому аналитик должен быть чувствителен. Если аналитик обращает внимание только на перенос, без должного внимания к отношениям аналитик-пациент и к реакциям пациента на аналитическую ситуацию, включая переживание опасности (Levy and Inderbitzin, 1997), то ситуация может восприниматься как непереносимая ретравматизация, поскольку травмированные пациенты чувствуют себя все более уязвимыми по мере того, как расщепление становится менее эффективным как защита.
Таким образом, аналитическое лечение травмы показывает важность постоянного внимания к влияниям аналитика на пациента. И потенциально наносящие вред воздействия психоаналитической ситуации становятся более понятными, когда осознаешь, что для некоторых пациентов сама аналитическая ситуация может переживаться как повторение детской травмы. Когда серьезно травмированный ребенок переживает расщепление в опыте Я, то с одной стороны, как считает Ференци, присутствует «презрительная, возможно, саркастическая и ироническая покорность перед лицом господства», а с другой – «внутреннее знание, что насилие фактически ничего не достигло», «ощущение того, что ты больше и умнее жестокой силы». Такие расщепления, характерные для людей, которые пережили тяжелую детскую травму, приводят их к болезненным чувствам пустоты и изоляции, фальшивости и небытия («Люди смотрят сквозь меня так, словно я не существую», – сказал один из моих пациентов). Такая ужасная пустота скрывает «болезненное раздражение, тенденцию к гневу и ощущению беззащитности, чувство беспомощности или страх перед непоправимыми вспышками ярости и агрессии» (Клинический дневник). Следовательно, аналитическое лечение травмированных пациентов требует со стороны аналитика значительного такта и чувствительности к тем моментам, когда аналитическая ситуация переживается пациентом как травматическая.
В случаях, которые я хотел бы привести, речь идет не о «классических» психоаналитических пациентах в полном смысле слова, что не означает, что психоаналитическая техника не может быть эффективно применена. Хотя один пациент функционирует гораздо лучше другого, оба переживали эффекты «расщепления» как реакцию на травму.
Нора была направлена ко мне после очередной госпитализации, которых было несколько за последние три года, и после того, как она не смогла сформировать какой-либо терапевтический альянс с терапевтом. Ее детство было очень травматическим. Когда она впервые позвонила мне по телефону, она была очень дезорганизована и разгневана. Она была не в состоянии говорить по телефону более, чем несколько минут, внезапно взрывалась, становясь столь сердитой, что стремительно обрывала разговор, говоря, что собирается убить себя. В течение первых двух месяцев телефонных разговоров, когда она звонила мне из разных мест с побережья, она каждый раз срывалась, злилась, резко обрывала разговор, в то же самое время цепляясь за меня как за соломинку. В течение этих месяцев я видел ее в моем офисе только один раз, недолго. Она покинула мой кабинет в ярости спустя несколько минут. После этого были еще госпитализации и масса обрывистых телефонных бесед до тех пор, пока мне не удалось убедить ее начать регулярное лечение.
В первые несколько недель лечения Нора повторяла тихим монотонным голосом, что ее семья свела ее с ума, заплатила психиатрам и докторам, чтобы они окончательно довели ее до сумасшествия, c целью избавиться от нее и завладеть ее наследством. «Они убили меня», – повторяла она снова и снова, имея в виду, что «от нее ничего не осталось»; она была «вне себя».
Нора была склонна проецировать свой гнев на внешние фигуры, что лишало ее всякого шанса почувствовать себя реальной и существующей. Если внутри она чувствовала себя беспомощной, гнев должен был проявиться снаружи, даже несмотря на то, что такие защитные позиции все больше приводили ее в отчаяние. А хаос и беспорядок снаружи помогали ей ускользать от осознания того факта, что она боится собственных чувств. Испытывать безумную ярость из-за того, что другие люди не оправдывали ее ожиданий, было меньшей опасностью, чем осознавать собственную ярость и пустоту. Несмотря на интенсивные чувства опустошенности, порождаемые таким расщеплением, несмотря на боль, несмотря на то, что она слепо стремилась убежать от этих чувств, защиты расщепления и проекции давали ей иллюзию объяснения ее ситуации – она жертва.
Как будто следуя аналогии женщины с коробками из работы Фрейда, которая не могла удержать их все сразу, Нора была поглощена проблемами неуплаченных счетов, которые она держала в коробках, при этом она сочиняла длиннющие письма по поводу каждого счета, а потом делала копии и хранила их в ящиках сейфа. Когда всех этих кусочков ее жизни становилось слишком много и ей все труднее было находиться в курсе их содержания, она начинала тревожиться, не зная, что было в каждой коробке, папке или в ящиках сейфа. Тревога возрастала, так как она чувствовала, что ей никто не поможет. Она ничего не могла найти и очень боялась, что полиция заберет ее за неуплату налогов или мошенничество. Ее гнев был обращен на наказующие фигуры (ее семья, полиция, международный красный крест, ФБР, ее аналитик), а она оставалась со своей дезорганизованностью и серьезным расщеплением, которое символизировали ее коробки и папки, где находились кусочки ее жизни и которые она, подобно Шалтай-Болтаю, не могла собрать вместе.