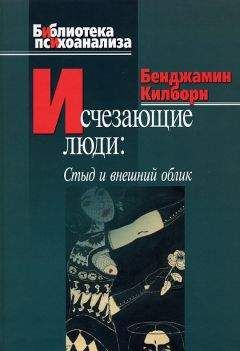Позволю себе сделать здесь паузу, чтобы прокомментировать свой психоаналитический подход к литературному произведению. Книга, подобная «Алой букве», многому может научить, если мы позволим ей это сделать. По крайней мере, для меня это значит подчинить понятие аналитической интерпретации (согласно которой субъект и объект – два отдельных человека) понятию свободного аналитического исследования, включающего аналитические вопросы относительно природы и функций психического конфликта и символизации[314]. До тех пор, пока вопросы, которые я ставлю, являются клинически существенными, а использование литературного произведения может помочь искать ответы на них, не столь важно обнаружение возможных «доказательств» или того, как обстоят дела «на самом деле». Гораздо существеннее обнаружить то, что полезно, что поможет нам, аналитикам, быть более внимательными и восприимчивыми к нашим пациентам и к самим себе. Клинические виньетки, в которых чувства аналитика или анализанда затмеваются клиническими деталями, неизбежно содержат искажения, и конечный результат анализа не может быть вполне удовлетворительным. Аналогично при исследовании литературного произведения следует иметь в виду, что детали сюжета могут скрадывать значимые динамики.
Итак, что делает стыд Димсдейла столь невыносимым? Вопрос о механизме «невыносимости» мне представляется центральным во всякой клинической работе; он может быть связан с конфликтом идеалов Супер-Эго – с оценкой, которой индивид подвергает свои чувства. С этой точки зрения, стыд может быть фундаментальной реакцией на (и защитой от) «неправильные чувства», или на беспомощность перед интенсивностью чувств, или на заполняющие индивида непонятные ему чувства[315]. Кроме конфликтов между эгоидеалами, страх перед интенсивностью самих чувств также вызывает стыд, который, в свою очередь, порождает защиты от стыда как от угрожающе интенсивного аффекта. Стыд представляет угрозу не только вследствие своей интенсивности, но также вследствие своей опасности для эго-идеалов – оплота уравновешенности и уверенности в себе: с точки зрения этих идеалов реальные чувства – такие, как беспомощность и внутреннее замешательство – заслуживают насмешки и презрения.
Алый цвет вызывает образы крови, смерти, родов и жизни, и все это связано с сильными чувствами. Миры Чиллингуорса и Димсдейла, напротив, являются холодными, тусклыми, отталкивающими и безжизненными, как на то и намекают их имена[316]. Димсдейл неспособен публично признать свое отцовство, почувствовать ценность связи между отцом и ребенком. В противоположность ему, Гестер Прин носит свою букву «А» в ее кричащем великолепии и видит в Перл смысл своей жизни – как и смысл своего стыда.
Здесь стоит упомянуть значимые биографические факты: отец Готорна умер, когда ему было четыре. Растила мальчика мать. Когда она умерла в 1849 г., сорокапятилетний Готорн начал писать «Алую букву» и «Таможню», опубликованные в следующем году. Первое из этих произведений, по-видимому, было вызвано к жизни горем писателя из-за смерти матери и его переживанием контраста между алым миром матери и его тусклым миром без нее. Если иметь в виду потерю матери (и отца в четыре года), то призрачность фигуры Димсдейла приобретает биографическое соответствие.
Сам Готорн был человеком крайне робким и застенчивым, что указывает на его острую чувствительность к стыду. Вот мнение Джона Апдайка (Updike, 2001): «На протяжении десяти лет он вел призрачное существование в Салеме, с матерью, застывшей в своем горе, и двумя сестрами – старыми девами, – сочиняя для журналов свои милые вещицы, подобные антикварным диковинам. В 1837 г. он написал Лонгфелло: “Я так мало видел мир, что мне приходится стряпать свои истории из одного лишь воздуха, и непросто придать подобие жизни этой туманной материи”. В призрачном и всепроникающем окружении героев своих причудливых очерков и рассказов Готорн предстает Monsieur du Miroir[317], странником из духовного мира, человеческое в котором – лишь обманчивый покров зримости». Димсдейл тоже не имеет ничего, кроме этого «обманчивого покрова зримости», который одновременно защищает его и обрекает на невыразимые одиночество и боль.
На мой взгляд, фокусироваться исключительно на стыде Гестер Прин, игнорируя стыд Димсдейла, – значит упустить существенную движущую силу книги, пройти мимо той тонкости и проницательности, с которыми Готорн разрабатывает конфликты стыда и Cупер-Эго у своего героя. Некоторые критики полагают, что «А» Гестер ассоциируется с внешним, социальным осуждением – в противоположность чувству вины и внутреннему самобичеванию Димсдейла. По-моему, такая картина искажает центральную динамику книги, поскольку и стыд, и вина могут обслуживать друг друга, а внутренние конфликты стыда влияют на переживание внешнего осуждения.
Наконец, стоит коснуться особенностей повествования Готорна. Оставаясь примечательно невидимым, нерешительный и опасливый рассказчик вплетает реакции стыда в саму ткань своей истории. Я думаю, есть связь между этой особенностью повествования Готорна и конфликтами стыда, в которых желание «смотреть» и «не смотреть» выражает как жажду быть признанным, так и ужас быть увиденным. В «Таможне», которая служит предисловием к «Алой букве», рассказчик дает понять, что намерен «… болтать об окружающем и даже о нас самих, по-прежнему, однако, не приподнимая покрова над нашим сокровенным “я”»[318]. Может быть, он думает здесь о сокровенном «я» Гестер Прин? Димсдейла? О сокровенной сути собственного любопытства по поводу этой истории?
Рассказчик Готорна опасливо проникает в глубины человеческого сердца. Он с беспокойством задается вопросами о том, что откроется ему, каков будет эффект его вторжения и что же на самом деле происходит. Эта нерешительность повествования, эти признаки колебаний риторически усиливают ощущение тайны, прояснения которой одновременно желают и страшатся[319]. Как и в греческой трагедии, этот прием позволяет передать глубинное предчувствие дурного: ужас, который откроется взору, если внимательно посмотреть.
Обнаружив ткань с алой буквой, рассказчик, чиновник таможни, подбирает ее без всякой цели. Это кусок материи, «очень изношенной и выцветшей», «.время, износ и кощунственная моль превратили материю в тряпку»[320]. Рассказчику приходит в голову, что она, несомненно, служила украшением. «.Но как ее следовало носить и какой ранг, отличие, звание она некогда обозначала, казалось мне почти неразрешимой загадкой, ибо моды на подобные украшения весьма недолговечны в этом мире»[321].
Так постепенно, окутанная тайной, разворачивается история Гестер Принн и ее вышитой ткани. Разворачивается так, словно предчувствие трагедии Гестер наполняет рассказчика стеснением, позволяя ему продвигаться лишь с трудом, нерешительно соединяя вместе ключи к разгадке тайны. Поэтому историю свою он рассказывает, оправдываясь и стыдясь[322].
Далее я от разговора о стыде Гестер Принн перейду к обсуждению стыда Димсдейла и затем в заключительной части вернусь к вопросу о том, что делает конфликты стыда столь невыносимыми и трагичными.
Первое описание Гестер показывает ее пытающейся закрыться от взглядов публики своим младенцем. «Однако тотчас же, мудро рассудив, что бесполезно прикрывать один знак позора другим, она удобнее положила ребенка на руку и, вспыхнув до корней волос, но все-таки надменно улыбаясь, обвела прямым, вызывающим взглядом своих сограждан и соседей»[323]. Здесь Готорн отмечает основополагающее для динамики стыда переживание: «…бесполезно прикрывать один знак позора другим.» Гестер знала, что не сможет спрятаться за своей дочерью, поскольку само существование Перл, зачатой вне брака, свидетельствовало об ее стыде. Однако, вооруженная своей «А», Гестер может чувствовать себя защищенной, вести себя надменно и вызывающе, быть способной отвечать обвинителям твердым взглядом. Алая буква была «выполнена так мастерски, с такой пышностью и с таким богатством фантазии, что производила впечатление специально подобранной изысканной отделки к платью, столь нарядному…что… оно… далеко переступало границы, установленные действовавшими в колонии законами против роскоши».
Далее о букве говорится, что «в ней словно скрывались какие-то чары, которые, отторгнув Гестер Прин от остальных людей, замкнули ее в особом кругу»[324].
Готорн отмечает, что своей вышитой «А» Гестер вызывающе предъявила себе и другим свой стыд. Это сделало ее самым живым персонажем книги. Она представлена отнюдь не беспомощной женщиной, которую несчастливые обстоятельства повергли в сокрушительное бесчестье. Напротив, она как бы бросает в лицо окружающим свою алую букву. Подобно атрибутам святых мучеников (таким, как колесо св. Екатерины или лев св. Иеронима), для Гестер «А» и ее младенец выполняют иконографические функции, парадоксально защищая ее от публичного осуждения, презрения и жестокости. Вместо того, чтобы безмолвно нести на себе печать позора, Гестер переворачивает ситуацию, найдя в ребенке свою главную ценность. И имя ее ребенка – Перл[325].