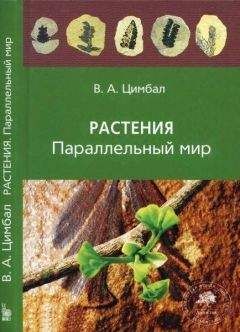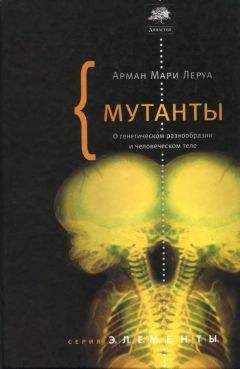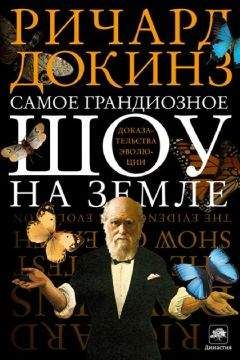Романес, опираясь на собственные ощущения, утверждал, что для подобного поведения необходимы умственные способности. Неубедительность его подхода очевидна и состоит в том, что он основан на доверии к личному опыту и единожды произошедших событиях. Я ничего не имею против анекдотических историй, особенно если они записаны на камеру или исходят от заслуживающих доверия очевидцев, хорошо знающих животных. Но я рассматриваю подобные случаи в качестве начала, а не конца исследования. Тем, кто пренебрегает историями подобного рода, следует иметь в виду, что практически каждая интересная работа по поведению животных начиналась с непредсказуемого, ставящего в тупик события. Забавные происшествия подсказывают нам возможные направления исследования и пробуждают наше мышление.
Однако мы не можем исключить, что событие было случайным и никогда больше не повторится или что какая-то важная его особенность осталась незамеченной. Наблюдатель также может неосознанно добавить к общей картине недостающие детали, полагаясь на собственные предположения. Тут не разберешься, коллекционируя новые необычные случаи. Как говорится, «множество слухов – еще не доказательство». По иронии судьбы, когда Джорджу Романесу, в свою очередь, пришло время подыскать себе преемника, он выбрал британского психолога Ллойда Моргана, который положил конец всем этим неограниченным спекуляциям. В 1894 г. Морган сформулировал, возможно, наиболее часто цитируемое правило во всей психологии:
«Ни в коем случае нельзя интерпретировать то или иное действие как результат проявления какой-либо высшей психической функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале»{46}.
Поколения психологов почтительно повторяли правило Моргана, полагая, что оно закрепляет за животными положение механизмов, построенных по принципу «стимул – реакция». Но Морган не имел в виду ничего подобного. На самом деле он с полным основанием уточнял: «Но, безусловно, простота объяснения необязательно служит критерием его истинности»{47}. Тем самым Морган выражал свое отношение к точке зрения, что животные – тупые бездушные автоматы. Разумеется, ни один уважающий себя ученый не станет рассуждать о душе животного, но отрицание у животных какой бы то ни было умственной деятельности – примерно то же самое. Обескураженный подобными взглядами, Морган позаботился о том, чтобы уточнить свое правило: нет ничего предосудительного в сложных объяснениях, если доказано, что изучаемый вид обладает развитыми умственными способностями{48}. Существует более чем достаточно подтверждений, что такие животные, как шимпанзе, слоны и вороны, обладают сложными познавательными способностями. И когда мы сталкиваемся с их проявлениями, вовсе не обязательно начинать искать объяснение с нуля. И не обязательно мотивировать поведение этих животных теми же причинами, например, что и у крысы. Но даже для несчастной недооцененной крысы нулевой уровень – не лучшая точка отсчета.
Правило Моргана рассматривалось как вариант бритвы Оккама, согласно которой наука должна искать объяснения с наименьшим количеством допущений. Конечно, это благородная задача, но что делать, если самое простое объяснение вынуждает нас поверить в чудеса? Стремление к упрощению эволюции познания часто противоречит логике самой эволюции{49}. Так, с точки зрения эволюции было бы чудом, если бы мы, как нам самим представляется, обладали выдающимися познавательными способностями, а наши собратья-животные были бы их полностью лишены. Ни один биолог не готов заходить так далеко: мы верим в постепенные изменения. Нам не нравятся значительные расхождения между близкими видами, если только у нас нет для этого подходящего объяснения. Каким образом наш вид сумел стать разумным и сознательным, если весь остальной мир живой природы не сделал и шага в этом направлении? Правило Моргана, относящееся только к животным, отражает сальтационистские представления об эволюции и оставляет человеческий разум в пустом эволюционном пространстве. Надо отдать должное Моргану, который, понимая ограниченность применения своего правила, предостерег нас не путать простоту с реальностью.
Мало кому известно, что этология сложилась под воздействием скептицизма по отношению к субъективным методам. Тинберген и другие голландские этологи сформировались под влиянием популярных иллюстрированных книг, учивших любви и уважению к природе, настаивая при этом, что единственный способ по-настоящему понять животных – наблюдать за ними в живой природе. Это вдохновило массовое молодежное движение в Голландии, проводившее экскурсии на природу каждое воскресенье, что породило целое поколение страстных натуралистов. Такой подход, однако, не слишком соответствовал традициям голландской зоопсихологии, главной фигурой которой был Йохан Беренс де Хаан. Пользовавшийся международной известностью эрудит с академическими манерами, Беренс де Хаан, наверное, чувствовал себя не в своей тарелке, когда навещал Тинбергена среди дюн в Халшорсте, где тот проводил полевые исследования. В то время как молодое поколение суетилось вокруг в шортах и с сачками для бабочек в руках, пожилой профессор приезжал в костюме и галстуке. Эти посещения свидетельствуют о сердечных отношениях между двумя учеными, однако вскоре Тинберген начал подвергать сомнению основы зоопсихологии, такие как отношение к самонаблюдению. Различия между субъективизмом Беренса де Хаана и собственными взглядами Тинбергена постепенно увеличивались, и их пути разошлись{50}. Лоренц, не будучи соотечественником Беренса де Хаана, был к нему менее снисходителен и ехидно прозвал Der Bierhahn (нем. – пивной кран).
Сегодня Тинберген наиболее известен благодаря своим «четырем почему»: четырем различным, но связанным между собой вопросам, касающимся поведения. Ни в одном из них в явном виде не говорится об умственных или познавательных способностях{51}. Возможно, стремление этологии избегать каких-либо упоминаний о внутренних установках было существенно на раннем этапе развития эмпирической основы этой науки. Как следствие, этология временно закрыла тему познания и сосредоточилась на значении поведения для выживания. Тем самым этология заложила основы будущих социобиологии, эволюционной психологии и экологии поведения. Это также позволило найти приемлемый обходной путь, минуя познание. Как только возникали вопросы о разуме или эмоциях, этологи тут же перефразировали их в функциональную терминологию. Например, если один бонобо в ответ на крики другого бонобо кидается к нему и крепко обнимает, то классические этологи прежде всего задают вопрос о функции такого поведения. Они спорят о том, кто больше выигрывает от такого поведения – зовущий или откликающийся на крик, не спрашивая, что бонобо думают и какие эмоции переживают в данной ситуации. Способны ли животные к сочувствию? Понимают ли бонобо потребности друг друга? Такие вопросы ставили (и продолжают ставить) многих этологов в неловкое положение.
Любопытно, что этологи, рассматривая познавательные способности и эмоции животных как слишком спорные понятия, в то же время ощущали себя на твердой почве, рассуждая об эволюции поведения. Если и существует область знания, целиком основанная на догадках, то это как раз эволюция поведения. Теоретически сначала необходимо установить, как наследуется поведение, а затем оценить, каким образом это влияет на выживание и размножение вида в течение многих поколений. Но выявить подобную информацию удается очень редко. Для быстро размножающихся организмов, таких как слизевики или плодовые мушки, на эти вопросы можно получить ответы. Но эволюционные основы поведения слонов или людей остаются предположительными, потому что невозможно организовать широкомасштабное разведение этих видов. В то время как мы располагаем возможностями проверять гипотезы и математически моделировать результаты поведения, большинство фактических данных имеет косвенный характер. Контроль рождаемости, здравоохранение и технологии делают наш вид практически безнадежным с точки зрения проверки эволюционных теорий, вот почему существует множество спекуляций относительно того, что представляла собой так называемая среда эволюционной адаптации (СЭА). Речь идет о жизненных установках наших предков, охотников-собирателей, о чем мы, очевидно, имеем смутное представление.
Напротив, изучение познавательных способностей связано с процессами, происходящими в реальном времени. Несмотря на то что мы не можем «увидеть» процесс познания, мы способны поставить эксперимент и на его основе постараться понять, как происходит этот процесс, исключив альтернативные объяснения. В этом отношении исследование познания ничем не отличается от любого другого. Тем не менее изучение познавательных способностей животных все еще относят к гуманитарным наукам, и молодым ученым до сих пор советуют держаться подальше от этой скользкой темы. «Подождите, пока не устроитесь на постоянную должность», – рекомендуют маститые профессора. Этот скептицизм связан с забавной историей, произошедшей с одной лошадью в Германии примерно в те времена, когда Морган сформулировал свое правило. Вороной жеребец, которого по-немецки звали Kluger Hans (Умный Ганс) привлек к себе всеобщее внимание, так как казалось, что он превосходно справляется со сложением, вычитанием и другими арифметическими действиями. Если хозяин предлагал ему умножить четыре на три, Ганс жизнерадостно топал копытом двенадцать раз. Он мог также назвать календарное число любого дня недели, если знал предыдущее, и извлекал квадратный корень из шестнадцати, топая копытом четыре раза. Ганс успешно решал даже такие задачи, с которыми никогда раньше не сталкивался, и превратился в международную сенсацию.