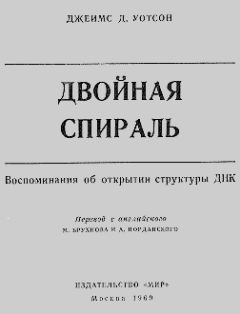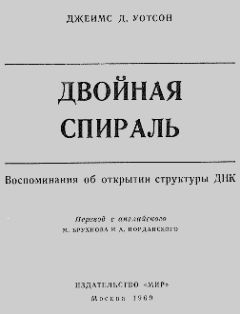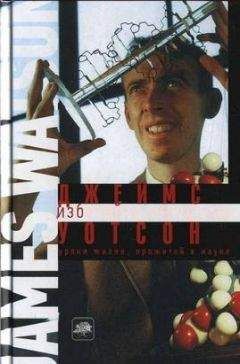Буквально все имевшиеся тогда факты убеждали меня в том, что ДНК служит матрицей, на которой образуются цепочки РНК. В свою очередь цепочки РНК были вполне вероятным кандидатом на роль матриц для синтеза белка. Какие-то неясные данные, полученные на морских ежах, истолковывались как доказательство превращения ДНК в РНК, но я предпочитал доверять другим экспериментам, свидетельствовавшим о том, что образовавшиеся молекулы ДНК весьма и весьма стабильны. Идея бессмертия генов была похожа на правду, и я повесил на стену над своим столом листок с надписью: ДНК –> РНК –> Белок. Стрелки обозначали не химические превращения, а перенос генетической информации от последовательности нуклеотидов в ДНК к последовательности аминокислот в белках.
Хотя уснул я довольный, с мыслью о том, что понял роль нуклеиновых кислот в белковом синтезе, но утром процесс одевания в ледяной спальне заставил меня осознать, что мой лозунг не может заменить структуры ДНК. А без нее все наши с Фрэнсисом рассуждения могли убедить биохимиков, с которыми мы встречались в соседней закусочной, лишь в том, что мы неспособны понять, как важна для биологии сложность.
Хуже всего было то, что даже когда Фрэнсис перестал думать о своих скрученных жгутах, а я – о генетике бактерий, мы все равно продолжали топтаться на том же месте, что и год назад. Обеды в «Орле» часто проходили без единого упоминания о ДНК, хотя во время послеобеденных прогулок по набережной гены нет-нет да всплывали в наших разговорах. Несколько раз во время этих прогулок мы так увлекались, что, вернувшись в лабораторию, начинали возиться с моделями. Но Фрэнсис тут же убеждался, что рассуждения, заронившие было в нас надежду, никуда не ведут, и возвращался к изучению рентгенограмм гемоглобина, которые должны были породить его диссертацию. Я иногда продолжал работать над моделью один, но без ободряющей болтовни Фрэнсиса моя неспособность к пространственному мышлению очень скоро становилась чересчур очевидной.
Поэтому меня и не огорчало, что нам приходилось делить наш кабинет с Питером Полингом, который жил тогда в Питерхаусе, как стажер Джона Кендрью. Как только дальнейшие занятия наукой теряли смысл, Питер всегда был готов обсуждать сравнительные достоинства девушек Англии, прочих европейских стран и Калифорнии.
Однако, когда как-то в середине декабря Питер вошел после обеда в кабинет и уселся, положив ног на стол, широкая улыбка на его лице не имела ни какого отношения к хорошеньким мордочкам. В руке он держал письмо из Штатов, которое захватил в своем колледже, когда ходил обедать.
Письмо было от его отца. Кроме обычных семейных новостей, оно содержало известие, которого мы так долго опасались: Лайнус открыл структуру ДНК. Никаких подробностей он не сообщал, и пока письмо переходило от Фрэнсиса ко мне и от меня к Фрэнсису, нас все больше охватывало отчаяние. Фрэнсис начал расхаживать по комнате и размышлять вслух рассчитывая ценой сильнейшего напряжения мысли достигнуть того же, чего достиг Лайнус. Своего решения проблемы Лайнус не сообщил, а потому мы могли бы разделить с ним честь открытия, если бы объявили о нем одновременно.
Однако из усилий Фрэнсиса ничего не получилось, а потому мы пошли пить чай наверх и рассказали об этом письме Максу и Джону. Туда зашел Брэгг, но ни мне, ни Фрэнсису не захотелось позлорадствовать, сообщив ему, что американцы снова собираются посрамить английские лаборатории. Мы уныло жевали шоколадный торт, а Джон, пытаясь нас утешить, говорил, что Лайнус мог и ошибиться – ведь он же не видел рентгенограмм Мориса и Рози. Но сердце подсказывало нам, что Лайнус не ошибся.
До рождества из Пасадены больше не поступало никаких новостей, и мы понемногу успокаивались. Если бы Полинг действительно нашел стоящий ответ, он не смог бы долго держать его в секрете. Кто-нибудь из его студентов наверняка знал бы, на что похожа его модель, и если бы она обещала сыграть определенную роль в биологии, слух об этом быстро дошел бы до нас. Если Лайнус и подобрался к истинной структуре, то тайны репликации гена он вряд ли коснулся. И потом, чем больше мы размышляли о химии ДНК, тем менее вероятным казалось нам, чтобы даже Лайнус смог установить ее структуру, не зная работ Кингз-колледжа.
На рождественские каникулы я поехал в Швейцарию кататься на лыжах и, проезжая через Лондон, сообщил Морису, что Полинг забрался в его огород. Я надеялся, что критическая ситуация, вызванная наступлением Лайнуса на ДНК, заставит Мориса обратиться за помощью к нам с Фрэнсисом. Однако если Морис и считал, что Лайнус имеет шансы сорвать банк, он этого ничем не выдал. Гораздо важнее была новость о том, что дни Рози в Кингз-колледже сочтены. Она сообщила Морису, что намерена перейти в лабораторию Бернала в Бэркбек-колледже. А главное, к удивлению и облегчению Мориса, она не собиралась забрать с собой проблему ДНК. Заканчивая все дела перед уходом, она решила подготовить для печати статью о своих результатах. После этого, наконец избавившись от Рози, Морис думал приступить к решительным поискам структуры.
Вернувшись в Кембридж в середине января, я поспешил увидеться с Питером, чтобы узнать, что ему пишут из дому. Писали ему только о домашних делах, ДНК упоминалась всего один раз. Но это единственное упоминание было тревожным: статья о ДНК уже написана, и один экземпляр ее скоро будет выслан Питеру. И опять – ни слова о том, на что похожа модель.
В ожидании статьи Полинга я заглушал беспокойство, записывая свои соображения о половом по ведении бактерий. После каникул, которые я провел в Церматте, я ненадолго съездил к Кавалли в Милан и убедился, что мои представления о половом размножении бактерий могут оказаться верными. Опасаясь, как бы и Ледгрберг не пришел к тем же выводам, я торопился поскорее опубликовать статью вместе с Биллом Хейсом. Но рукопись еще не была готова, когда в первых числах февраля из-за океана пришла статья Полинга.
Вообще-то в Кембридж было послано два экземпляра статьи: один – Лоуренсу Брэггу, другой – Питеру. Брэгг, получив статью, попросту отложил ее в сторону. Не зная, что Питер тоже получит экземпляр, он не спешил передавать статью Максу: там ее увидел бы Фрэнсис и его опять занесло бы бог весть куда. При существующих обстоятельствах ему оставалось терпеть хохот Фрэнсиса всего восемь месяцев. Конечно, в том случае, если Фрэнсис закончит диссертацию в срок. Затем Крику предстояла ссылка в Бруклин на год, а то и больше, и в лаборатории воцарились бы мир и тишина.
Пока сэр Лоуренс размышлял, стоит ли рисковать, отвлекая внимание Крика от его диссертации мы с Фрэнсисом жадно читали статью, которую Питер принес после обеденного перерыва. Когда Питер входил в комнату, на его лице было многозначительное выражение, и у меня упало сердце: вот сейчас мы узнаем, что все пропало. Заметив, что мы с Фрэнсисом не в состоянии ждать ни минуты, Питер спешно сообщил, что модель представляет собой трехцепочечную спираль с сахаро-фосфатным остовом в центре. Это подозрительно напоминало нашу неудачную прошлогоднюю попытку, и я тут же подумал, что не помешай нам тогда Брэгг, слава великого открытия могла бы уже принадлежать нам. Прежде чем Фрэнсис спросил, где же статья, я уже выхватил ее из кармана Питера и углубился в чтение. Потратив меньше минуты на резюме и введение, я тут же перешел к схемам расположения важнейших атомов.
И сразу я почувствовал что-то неладное, хотя ошибку нашел только, когда как следует разглядел рисунки. И тут я понял, что фосфатные группы в модели Лайнуса не ионизированы, а каждая содержит связанный атом водорода и поэтому в целом нейтральна. В определенном смысле нуклеиновая кислота Полинга вовсе не была кислотой. Эти нейтральные фосфатные группы не были второстепенной деталью: как раз их атомы водорода образовывали водородные связи, скреплявшие три переплетенные цепи. Без них цепи сразу же развалились бы и структура распалась.
Согласно тому что я знал о химии нуклеиновых кислот, фосфатные группы вообще не могли содержать связанные атомы водорода. Никто никогда не сомневался в том, что ДНК – довольно сильная кислота. А потому в условиях организма вблизи от отрицательно заряженных фосфатных групп ДНК всегда находятся положительно заряженные ионы – скажем, натрия или магния, которые их нейтрализуют. Все наши рассуждения о двухвалентных ионах, которые скрепляют между собой цепи ДНК, были бы лишены всякого смысла, если бы фосфаты прочно удерживали атомы водорода. И все же Лайнус – бесспорно, самый проницательный химик мира – почему-то пришел к противоположному выводу.
Когда и Фрэнсис в свою очередь удивился такой необычной химии Полинга, я начал успокаиваться. Мне стало ясно, что мы еще не вышли из игры. Однако мы не могли понять, каким образом Лайнус пришел к такому ни с чем не сообразному выводу. Допусти студент такую грубую ошибку, его сочли бы непригодным для дальнейшего обучения на химическом факультете Калифорнийского технологического института. А потому у нас не могло не возникнуть страшного подозрения, что модель Лайнуса появилась в результате кардинального пересмотра всех прежних представлений о кислотно-щелочных свойствах очень больших молекул. Но судя по тону статьи, подобного переворота в теоретической химии не произошло. Держать в секрете такое основополагающее открытие не было никакого смысла. Если бы Лайнус его сделал, то он, скорее всего, написал бы две статьи: одну – о своей новой теории, а уж другую о том, как она позволила установить структуру ДНК.