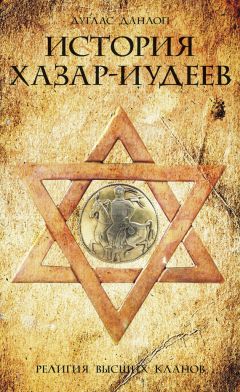Эта сцена вызывала то же впечатление суматохи и тупого насилия, какое оставляет зрелище уличной драки. Парни из perrera совсем запыхались, свои маски они посрывали и орудовали, почти не переговариваясь, да и сами собаки, как только оказывались в клетках, затихали. Сознавая, что их занятие презренно, приютские ловцы, несомненно, опасались реакции со стороны публики, здесь-то она в силу обстоятельств была весьма немногочисленна, но в противном случае наверняка не обошлось бы без проявлений враждебности.
Чуть поодаль стояла группа женщин, молчащих, но явно осуждающих, поскольку они опирались на лопаты, я было принял их за могилыциц, а оказалось — садовницы. «Почему они убивают собак?» — спросила одна. «Уж больно вкусны, пальчики оближешь!» — откликнулась другая, и ее товарки дружно расхохотались. Я передаю этот обмен репликами так, как его перевел Эдуардо, но подозреваю, что на самом деле он был двусмысленнее, возможно даже, с похабным намеком. По мнению садовниц, собаки, которых только что изловили, были совершенно безобидны. А единственные опасные собаки этого квартала якобы обитают на улице, что тянется из тупика у подножия cerro Ла-Эстрелла к его вершине. Та улица названа в честь братьев Люмьер, и упирается в некое подобие джунглей, верхушка холма отчасти скрывается под этими зарослями. Когда мы туда подкатили, несколько пьяниц, растянувшихся прямо поперек дороги, без малейшей спешки встали и посторонились, отступив в кустарник, откуда тотчас раздался смех, один только бродячий пес остался лежать на щебеночном покрытии, словно мертвый. Он не выглядел сколько-нибудь более опасным, чем его кладбищенские собратья. Должно быть, дурная репутация собак с улицы Братьев Люмьер объясняется их соседством, а может, и приятельскими отношениями с пьянчужками.
Арно Эксбален, француз, работающий над диссертацией о рождении полиции в Мехико, утверждает, что во время великой matanza de perros (расправы над собаками), совершенной в мексиканской столице в 1798 году, одной из первых подобных акций, которая проводилась весьма методично, хотя никакой эпидемии бешенства не было и в помине, под прицелом оказалось всяческое бродяжничество — не только собачье. Он подчеркивает, что слово, обозначавшее бродячую собаку (perro vago), в ту эпоху легко сводилось просто к el vago («бродяга»), да это выражение и поныне наряду с прочими употребляется в подобном контексте. Что до крестового похода 1798 года, он был если и не вдохновлен, то по крайности горячо поддержан проповедями одного рьяного священнослужителя, который упрекал собак в большинстве грехов, равным образом вменяемых в вину черни: они-де ленивы, похотливы и — вот уже прегрешение для собаки — имеют привычку блевать и гадить в церкви.
Склонность прилюдно затевать шумные драки является еще одной общей чертой собак и бродяг, а отвращение или ужас может внушить как пес, так и бомж. Карлос Фуэнтес в книге «Смерть Артемио Круза» сумел извлечь из этого обстоятельства одну из лучших собачьих сцен в мексиканской литературе… или в той ничтожной ее части, которая мне знакома. Дело происходит в 1941 году. Величественная буржуазная дама и ее дочь делают покупки в центре Мехико: «Они разделили между собой пакеты и направились ко Дворцу изящных искусств, где шофер должен был дожидаться их; шли, поворачивая головы, как локаторы, глазея на витрины по обе стороны улицы, и глазея на витрины, как вдруг мать содрогнулась, уронила пакет и схватила дочь за руку — прямо перед ними выскочили две собаки, рыча в холодной ярости, они то отскакивали друг от друга, то вцеплялись друг другу в шею до крови, кидались на шоссе, снова, сцепившись в клубок, жестоко грызлись со свирепым рыком — две шелудивые уличные собаки с пеной на мордах, кобель и сука. Девушка подхватила пакет и потащила мать к автостоянке».
В поисках места, где могла разыграться эта сценка, я оказался поблизости, перед Национальным музеем искусств, у подножия статуи Карлоса IV, и набрел на скопление народа, вернее, на лагерь жителей города Оахака — или, может быть, их более или менее просвещенных представителей. В те дни этот город был охвачен восстанием, беспорядки продолжались уже далеко не первую неделю. Протестное движение разгорелось наверняка в ответ на недобросовестность и насилие со стороны властей, и хотя, как водится, от тех же пороков не было свободно и само это движение, было бы приятно испытывать симпатию к бунтарям Оахаки, к тому же, читая об их приключениях в прессе, я определенно был к этому склонен. Но, проходя через их становище, изобиловавшее портретами бородатых старейшин и флагами мелких конкурирующих группировок, с длинными, как руки, аббревиатурами названий, с лидерами, злобно орущими в рупора, я ощутил, что эта прогулка действует на меня, как посещение музея восковых фигур, с экспозицией, посвященной французской революции, и более всего внушает отвращение, примерно такое же, какое испытали бы те две дамы из книги Карлоса Фуэнтеса, походить на которых у меня нет ни малейшего желания.
В последние месяцы 2006 года в Вальпараисо доступ на станцию «Пуэрто» так называемой métro tren, легкорельсовой железной дороги, ненадолго усложнился из-за работ, затеянных для ее расширения и обновления. Вступив на временные мостки, по которым только и можно попасть на платформу, нельзя не заметить, насколько этот странно изогнутый проход, образующий тупиковые закоулочки, благоприятствует нежелательным встречам. Поэтому никто не удивился, утром в понедельник 6 ноября увидев на первой странице местного ежедневника «Ла Эстрелла» заголовок во всю ширину газетной страницы: «Сексуальный маньяк орудует на станции „Пуэрто“!»
«Часы показывали 11.30 утра, — продолжает „Ла Эстрелла“, — когда извращенец, подъехавший к станции метро „Пуэрто“ на велосипеде, напал на юную студентку университета Вальпараисо…» Чтобы дать почувствовать весь ужас случившегося и чем-то восполнить бедность своего рассказа об этом, газета снабдила хронику происшествий иллюстрацией — фотоснимком не самой сцены, а ее инсценировки, но статисты, не говоря о фотографе, были так ленивы, что результат шел вразрез с предполагаемым эффектом: протянув вперед руки, словно лунатик из комикса, и положив ладони на плечи псевдожертвы, с виду слегка оцепеневшей, псевдопсихопат, казалось, скорее тщится удержать ее на расстоянии, будто хочет предотвратить некие поползновения с ее стороны.
Чем внимательнее всматриваешься в этот монтаж, чья вопиющая ненатуральность едва ли не возводит его в ранг произведения искусства, тем глубже в сознание проникает внушаемая этим зрелищем догадка, что в пятницу 4 ноября на станции «Пуэрто» ничего не произошло — по крайней мере, ничего такого, что бы оправдывало интерес со стороны газеты, пусть даже такой непритязательной, как «Ла Эстрелла».
Эта самая «Пуэрто» являет собой конечную станцию линии метро, частично надземной, связывающей Вальпараисо с соседним городом Вина-дель-Мар. Она заканчивается вблизи его северной границы, на площади Сотомайор, там, где выход в порт, нужно одолеть только лестницу в несколько ступеней, и вы уже на набережной Прат, названной в честь человека, оставившего неизгладимый след в мировой топонимике, в истории чилийского флота, да и просто в истории страны. Поодаль от набережной между одинаковыми, почти как близнецы, зданиями таможни и конторы начальника порта высится монумент, увенчанный статуей Прата с посвящением «от благодарной родины героям и мученикам» морского сражения у Икике. Когда время близится к полудню, вся восточная часть площади еще в тени, между тем как западная залита потоками света, и монумент красуется именно в этой освещенной зоне.
Отнюдь не единственная, но примечательная особенность чилийского морского флота — обычай праздновать как день своей славы, Glorias Navales, годовщину разгрома. (Подготовка к этой демонстрации регулярно становится поводом для очередного истребления собак и ответных, подчас весьма зрелищных манифестаций их защитников, среди которых в Вальпараисо заметно больше молодежи, они более изобретательны, а при случае и более агрессивны, чем в любом другом городе мира, где у бродячих собак имеются защитники.) Да, знаменитая битва, состоявшаяся 21 мая 1879 года у Икике, где чилийским морским силам противостояли перуанские, привела к тяжелому поражению первых. В ходе этого разгрома и случился эпизод, сам по себе бессмысленный, когда капитан фрегата Артуро Прат Чакон принял неминуемую смерть, но разом обрел все лавры, на коих с тех пор и почивает. А все потому, что ринулся на своем судне «Эсмеральда» в атаку на перуанский броненосец «Уаскар», хотя, не будь он героем, с первого бы взгляда смекнул, что это задача значительно превосходит его возможности. Так вот, этот самый «Уаскар», в полной сохранности и на плаву, ныне является собственностью чилийского флота и стоит в порту Талькауано, где его демонстрируют всем желающим. Чтобы понять, каким образом одно и то же судно могло сначала с триумфом угробить фрегат «Эсмеральда» и лично его капитана Артуро Прата Чакона, а затем попасть в руки врагов, надобно посетить Морской музей Вальпараисо, в основном фонде которого представлены экспонаты, относящиеся к обоим этим эпизодам — гибели «Эсмеральды» и пленению «Уаскара».