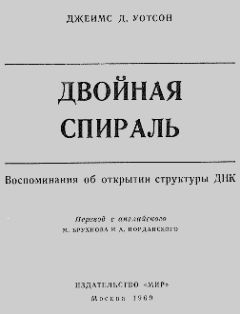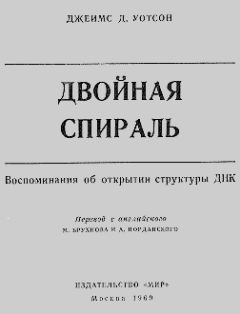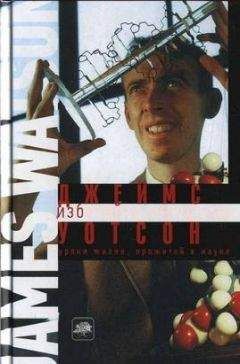К несчастью, Морис никак не мог найти благовидного предлога избавиться от Рози. Во-первых, в свое время ей дали основание считать, что ее приглашают сюда на несколько лет. Кроме того, нельзя было отрицать, что она умница. Если бы только она научилась сдерживать свои эмоции, то, конечно, могла бы оказать ему существенную помощь. Но ждать в надежде, что отношения улучшатся, значило опасно рисковать: легендарный химик из Калифорнийского технологического института Лайнус Полинг не был связан английскими понятиями о «честной игре». Рано или поздно Лайнус, которому тогда только что исполнилось пятьдесят лет, должен был обратить свои мысли к самой высокой научной награде. Интерес же его к проблеме ДНК не подлежал сомнению. Ведь Полинг не был бы величайшим из химиков, если бы не понял, что именно молекула ДНК — самая золотая из всех молекул. К тому же существовало даже прямое доказательство этого. Морис получил от Лайнуса письмо с просьбой прислать ему рентгенограммы кристаллической ДНК. После некоторых колебаний Морис ответил, что хотел бы сам более тщательно изучить рентгенограммы, прежде чем предавать их гласности.
Все это страшно выбивало Мориса из колеи. Он не затем ушел в биологию, чтобы и она оказалась столь же малоприемлемой с точки зрения этики, как физика с ее атомными последствиями. При мысли, что Лайнус и Фрэнсис вот-вот его обойдут, он лишался сна. Но Полинг находился в шести тысячах миль, и даже Фрэнсиса отделяли от него два часа езды на поезде.
А следовательно, главным камнем преткновения была Рози. Ему все больше начинало казаться, что лучшее место для феминистки — в чьей-нибудь чужой лаборатории.
Именно Уилкинс пробудил у меня интерес к рентгеноструктурным исследованиям ДНК. Произошло это в Неаполе, на небольшой научной конференции, посвященной структурам макромолекул, обнаруженных в живых клетках. Дело было весной 1951 года, когда я еще и не подозревал о существовании Фрэнсиса Крика. Собственно, ДНК я уже занимался и в Европу приехал для изучения ее биохимии на стипендию, полученную после защиты докторской диссертации. Мой интерес к ДНК вырос из возникшего в колледже на последнем курсе желания узнать, что же такое ген. В аспирантуре Университета штата Индиана я рассчитывал на то, что для раскрытия загадки гена химия может и не потребоваться. Это отчасти объяснялось ленью: в Чикагском университете я интересовался в основном птицами и всячески избегал изучения тех разделов химии и физики, которые представлялись мне хоть мало-мальски трудными. Биохимики университета на первых порах поощряли мои занятия органикой, но после того как я вздумал подогреть бензол на бунзеновской горелке, от дальнейших занятий настоящей химией я был освобожден. Намного безопаснее было выпустить доктора-недоучку, чем подвергаться риску нового взрыва.
Так мне и не пришлось заниматься химией до тех пор, пока после защиты диссертации я не поехал на стажировку в Копенгаген к биохимику Герману Калькару. Поездка за границу на первых порах показалась мне блестящим выходом из положения, в которое я попал из-за полного отсутствия каких-либо сведений о последних достижениях в области химии, чему отчасти способствовал и научный руководитель моей диссертации, микробиолог итальянской школы Сальвадор Луриа. Он питал брезгливое отвращение к большинству химиков и, в особенности, к беспощадно конкурирующей разновидности, которая плодится в джунглях Нью-Йорка. Калькар же, несомненно, был цивилизованным человеком, и Луриа надеялся, что в обществе этого интеллигентного европейского ученого я приобрету знания, необходимые для химических исследований, не попав под губительное влияние корыстных химиков-органиков.
В то время Луриа занимался в основном размножением бактериальных вирусов (бактериофагов, или, короче, фагов). Уже в течение нескольких лет среди наиболее прозорливых генетиков бытовало подозрение, что вирусы — это нечто вроде чистых генов. В этом случае для того, чтобы узнать, что же такое ген и как он воспроизводится, следовало изучать свойства вирусов. А так как простейшими вирусами были фаги, то в 40-х годах стало появляться все больше ученых, которые изучали фаги (так называемая фаговая группа), надеясь в конце концов узнать, каким образом гены управляют наследственностью клеток. Во главе этой группы стояли Луриа и его друг, немец по происхождению, физик-теоретик Макс Дельбрюк, который в то время был профессором Калифорнийского технологического института. Но если Дельбрюк продолжал надеяться, что проблему помогут решить чисто генетические ухищрения, то к Луриа все чаще начинала приходить мысль, что верный ответ удастся получить только после того, как будет установлено химическое строение вируса (гена). В глубине души он понимал, что невозможно описать поведение чего-то, если неизвестно, что это такое. Не сомневаясь, что он никогда не заставит себя изучить химию, Луриа избрал, как ему казалось, наиболее мудрый выход из положения и отправил к химику меня, своего первого серьезного ученика.
Выбор между специалистом по белкам и специалистом по нуклеиновым кислотам не составил особого труда. Хотя только около половины массы бактериального вируса приходится на ДНК (другая половина — белок), опыты Эвери указывали на ДНК как на основной генетический материал. Вот почему выяснение химического строения ДНК могло стать важным шагом к пониманию того, как воспроизводятся гены. Тем не менее в отличие от белков о химии ДНК было известно очень немногое. Ею занимались считанные химики, и генетику практически не за что было ухватиться, кроме того факта, что нуклеиновые кислоты представляют собой очень большие молекулы, построенные из более мелких строительных блоков-нуклеотидов. Далее, почти никто из химиков-органиков, работавших с ДНК, не интересовался генетикой. Калькар составлял приятное исключение. Летом 1945 года он приезжал в лабораторию Колд-Спринг-Харбор (близ Нью-Йорка), чтобы пройти у Дельбрюка курс по бактериальным вирусам. Поэтому и Луриа, и Дельбрюк надеялись, что именно в его копенгагенской лаборатории объединенные методы химии и генетики наконец принесут реальные биологические плоды.
Однако из их плана ничего не вышло. Герман меня не зажег. В его лаборатории я испытывал к химии нуклеиновых кислот то же равнодушие, что и в Штатах. Отчасти потому, что, на мой взгляд, разработка проблемы, которой он в то время занимался (метаболизм нуклеотидов), не могла дать ничего непосредственно интересного для генетики. Играло некоторую роль и то обстоятельство, что, несмотря на несомненную цивилизованность Германа, я его попросту не понимал.
Зато я довольно прилично понимал английский язык близкого друга Германа — Оле Маалойе. Оле только что вернулся из США (из Калифорнийского технологического института), где увлекся теми же самыми фагами, которые были темой моей диссертации. После возвращения он оставил свои прежние исследования и занимался только фагами. В то время он был единственным датчанином, работавшим с фагами, и поэтому очень обрадовался, когда я и Тантер Стент, специалист по фагам из лаборатории Дельбрюка, приехали работать к Герману. Вскоре мы с Гантером стали постоянными гостями в лаборатории Оле, которая находилась в нескольких милях от лаборатории Германа, а через некоторое время уже принимали активное участие в его экспериментах.
Вначале меня иногда мучила совесть при мысли, что я занимаюсь с Оле обычными исследованиями фагов, тогда как стипендию мне дали для того, чтобы я изучал биохимию под руководством Германа, — строго говоря, я нарушал это условие. Не прошло и трех месяцев после моего приезда в Копенгаген, как мне предложили представить план работы на следующий год. А это было не так просто, поскольку никаких планов у меня не было. Оставался единственный безопасный выход: попросить о продлении стажировки у Германа еще на год. Объяснять, что я так и не сумел воспылать любовью к биохимии, было бы рискованно. К тому же я не видел причин опасаться, что мне не разрешат изменить мои планы после того, как стажировка будет продлена. Поэтому я написал в Вашингтон, указывая, что хотел бы еще некоторое время провести в стимулирующей обстановке Копенгагена. Как я и ожидал, мою стажировку продлили — некоторые из тех, от кого это зависело, были лично знакомы с Калькаром и сочли вполне целесообразным предоставить ему возможность обучить еще одного биохимика.
Правда, было неизвестно, как отнесется к этому сам Герман. Он мог и обидеться на то, что я почти не бываю в его лаборатории. Впрочем, с его рассеянностью он, возможно, этого попросту еще не заметил. К счастью, этим страхам скоро пришел конец. Совершенно неожиданное событие избавило меня от дальнейших угрызений совести. Как-то, в начале декабря, я приехал на велосипеде в лабораторию Германа, предвидя еще одну очень милую, но абсолютно непонятную беседу. Однако на этот раз оказалось, что Германа иногда все-таки можно бывает понять. Ему необходимо было поделиться важной новостью: он порвал с женой и надеется получить развод. Новость эта очень скоро перестала быть секретом — она была сообщена по очереди всем сотрудникам лаборатории. Несколько дней спустя стало ясно, что какое-то время мысли Германа меньше всего будут заняты наукой, — возможно, до самого конца моего пребывания в Копенгагене. Таким образом, оставалось только радоваться, что он избавлен хотя бы от необходимости обучать меня биохимии нуклеиновых кислот! И я мог каждый день спокойно ездить на велосипеде в лабораторию Оле, сознавая, что вводить комитет по распределению стипендий в заблуждение относительно места моей работы все же лучше, чем вынуждать Германа говорить сейчас о биохимии.