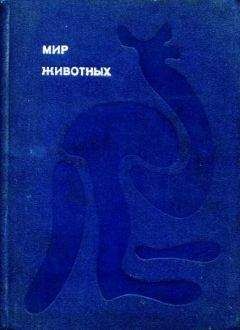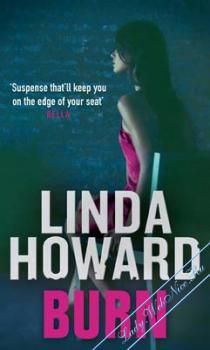А когда мешают, оба сильно гневаются. Самец бежит к чужаку с видом очень сердитым. Но дело до драки обычно не доходит, ограничивается лишь демонстрацией силы, которая убеждает непрошеного гостя, что он здесь лишний и лучше ему убраться восвояси.
У серебристой чайки три угрожающие позы. Когда самец не очень рассержен, он вытягивается вверх, иногда приподнимает крылья и идет с воинственным видом к противнику, напрягая все мускулы.
Если это врага не остановило и он продолжает углубляться в чужую территорию, то законный ее владелец подбегает к агрессору и перед самым его носом со сдержанной яростью вырывает из земли пучки травы. Рвет и бросает. Рвет и бросает.
Вот она, самая страшная угроза! Последнее серьезное предупреждение. Оно «леденит» кровь нарушителя границ, который немедленно ретируется.
Когда самка и самец встречают в своих владениях другую пару, они предупреждают ее о том, что место здесь уже занято, очень странной церемонией. Приседают (все это в паре, голова к голове), вытягивают шеи вниз, хрипят, словно подавились. (Они и в самом деле давятся своими языками!)
Вид у них уморительный, но зарвавшихся соседей он не веселит. Чужаки быстро поворачивают и ищут для своих прогулок другое место.
Яйца самец и самка насиживают по очереди[47]. Когда очередной сменщик возвращается из кратковременного отпуска, он заявляет о своем намерении сесть на гнездо продолжительным криком. А иногда подтверждает свои слова и «документально»: приносит в клюве какую-нибудь веточку или пучок травы — обычай, принятый и у некоторых других птиц. У галапагосских бакланов, например. Возвращаясь к гнезду из похода за пищей для птенцов, каждый родитель приносит в клюве пучок морских водорослей, а другой баклан, который сидит у гнезда, «приветствует кормильца особым криком», — пишет Эйбл-Эйбесфельдт.
Но вот птенцы у чаек вывелись. Едва успели родиться, а уже просят есть! Несколько часов смотрят они на мир желтыми глазами. Но ничего вокруг, кажется, не замечают: ищут красное пятно. Сейчас оно для них — средоточие всей вселенной.
Это красное пятно играет особую роль в сигнальном лексиконе серебристой чайки, и о нем стоит рассказать подробнее.
У взрослой чайки клюв желтый. Но на конце подклювья, словно ягодка зреет — отчетливое яркое красное пятно. Для новорожденного птенца эта «ягодка» — как бы поверенный представитель всего внешнего мира, личный опекун и посредник в мирских делах. Будто кто-то… (Известно «кто» — инстинкт, приобретенный серебристыми чайками за миллионы лет.)
Так вот, словно кто-то, когда птенец был еще в яйце, вдолбил ему в голову: «Когда выберешься из скорлупы на свет божий, ищи красное пятно! Оно тебя и накормит, и напоит, и согреет, и защитит. Ищи его, беги за ним. Все будет в порядке. Ищи красное пятно!»
И он ищет. Тычется носиком в родительский клюв с красным пятном на конце. А для родителя это сигнал. Даже приказ, которого нормальная птица не может ослушаться: инстинкт велит. Она сейчас же разевает рот и кормит птенца.
Опыты показали, что птенец ищет именно красное пятно. Когда к нему подносили модели клювов чаек, он без колебаний клевал тот «клюв», на котором было красное пятно. Некоторые птенцы, правда, неуверенно тыкались и в модели с черными пятнами.
Еще меньше возбуждали их клювы с синими и белыми пятнами. И уж совсем малое впечатление произвел на птенцов желтый клюв без всякого пятна. Так же и синий, черный, серый, зеленый и другие клювы без пятен.
Зато красный клюв даже без пятна очень привлекал птенцов: они принимали его, очевидно, за само пятно, а чересчур большие размеры не очень их смущали.
Чтобы переключить внимание птенца с красного сигнала на то, что он, в сущности, обозначает, взрослая птица берет кусочек отрыгнутой пищи (птенец и не глядит на нее, он глаз не сводит с красного пятна). Берет его кончиком клюва так, чтобы лакомый кусочек был поближе к этому самому пятну. Птенец, тычась в него, попадает клювом в пищу. Глотает ее. Понравилось.
Совсем даже не плохо. А пятно-то не подвело! И вот тянется за новым кусочком. Так совсем крошечный и дня не проживший на свете птенец обучается есть самостоятельно. Теперь у него образовался условный рефлекс на пятно, как у мышей на колокольчик: где оно, там и пища.
Еще одну «фразу» из словаря взрослых чаек он отлично понимает с первой минуты рождения. Крик тревоги: «га-га-га». Как услышит его, бежит, прячется, припадая к земле, замирает. «Маскировочный халат», в котором он родился, не выдаст его.
А родители тем временем с другими птицами гнездовья кружатся с криками над нарушителями спокойствия. Если на отмель забрела лисица или собака, то чайки пикируют на них, стараясь ударить лапами, и, увертываясь от зубов, взмывают вверх. А другие бомбардируют врагов с воздуха, отрыгивая на них пищу. Не очень-то это приятно… Люди и собаки даже, отряхиваясь, спешат покинуть запретную зону.
Опасность миновала, и чайки летят к гнездам, «мяуканьем» вызывают детей из укрытий.
И снова мир воцаряется на отмелях.
Требуется жена!
Весной самцы горихвосток прилетают к нам раньше самок. Они находят подходящее дупло или какую-нибудь уютную нишу, в которой можно устроить гнездо. Оберегают свою находку от других претендентов, не забывают, впрочем, и о самке. Ведь без женской половины свой род не продлишь. Чтобы привлечь ее, эту половину, самец вывешивает время от времени у входа в дупло объявление: «Есть прекрасная однокомнатная квартира. Требуется жена!»
Объявляет он об этом… своим хвостом. Высовывает поочередно из дупла то рыжий хвост и распускает его веером, то черную голову с белым лбом. Потом снова разворот — и опять рыжий хвост торчит из дупла.
Невесты быстро соображают, в чем дело, и долго себя ждать не заставляют.
Так и самец пустельги, если ему требуется жена, заявляет об этом во «всеувиденье» особым церемониальным полетом сверху вниз к какому-нибудь облюбованному им старому вороньему гнезду. Когда жена найдется, они потом слегка подремонтируют гнездо, принесут свежую подстилку и разведут в нем птенцов.
Ночные цапли, или кваквы, ловят рыбу по ночам и в сумерках (когда птенцы подрастут, цапли охотятся и днем). В темноте, когда возвращаются они к гнезду, нелегко ведь разобрать, кто подлетает — свой или враг? Чтобы детишки понапрасну не пугались, кваквы одним им известным паролем предупреждают их.
Пароль этот — особенный наклон головы. Приближаясь к гнезду, кваква прижимает клюв к груди, и все, к кому она повернулась, видят тогда ее сине-черную «шапочку» и несколько белых перьев над ней — цапля распускает их веером. Обычно же перья сложены пучком на затылке.
Один исследователь залез как-то на дерево, на котором кваквы устроили свое гнездо.
Наблюдая за цаплями, он делал это уже не однажды. Птенцы привыкли к нему и не пугались. Случилось так, что в это же время к гнезду с добычей спустилась с неба и взрослая птица. Она была уже достаточно ручной и не улетела, но на всякий случай встала в позу угрозы. Птенцы же, увидев вместо привычного пароля угрожающий «жест», сами замерли в боевой позиции и, защищаясь, стали клевать нарушившего правила родителя.
Иногда можно увидеть в зоопарках или в парках, где утки живут на свободе, как самка плывет к своему самцу и, поводя головой, как бы указывает через плечо на другого селезня, который в надежде на успешный адюльтер увивается поблизости. Она несколько раз повторяет это движение и иногда еще кричит: «Квег-гег-гегг-квегг». Жест этот и крик означают примерно следующее: «Вон чужой, прогони его!» Сейчас же ее рыцарь срывается с места, плывет за нахалом и гонит его прочь.
Перед тем как взлететь, утка подает сигнал своим компаньонам двумя способами: прижимает всегда чуть приподнятые перья и кивает вверх клювом, «как бы намекая на прыжок вверх», — говорит Оскар Хейнрот. Второе более категорическое заявление выражается в энергичном кивании. Утка тихо крякает и расправляет крылья — это одно уже служит достаточно убедительным стимулом к полету.
Утки, которые часто садятся на деревья, подают сигнал к взлету несколько иначе: вскидывают голову не снизу вверх, а сзади наперед, как и голуби в таких же случаях.
Язык запахов
У меня была собака, которая дожила до глубокой старости. Она совсем оглохла и ничего почти не видела: катаракта поразила ее глаза. Но в ее поведении мы не замечали почти никаких перемен. Она так же хорошо узнавала каждого из нас, когда мы приходили домой. Она выбегала одна гулять, когда открывали дверь, и находила дорогу обратно.
И лишь, когда она, возвращаясь по пути, ей незнакомому, натыкалась порой на углы и жалобно взвизгивала скорее от обиды, чем от боли, мы замечали, что собака совсем слепа. Случалось, что по старой привычке мы пытались позвать ее или приказывали: «Унга, лежать!» И тут видели, что она ничего не слышит.