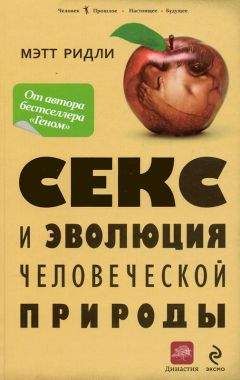Среди прочего, мы унаследовали от обезьян склонность к насилию против представителей своего вида. До 1970-х годов приматологи искали подтверждение расхожему мнению, согласно которому человекообразные обезьяны — мирные животные, образующие общества, чуждые насилию. Но потом ученым открылась редко проявляющаяся, но довольно зловещая сторона обезьяньей жизни. Самцы одного «племени» шимпанзе иногда совершают жестокие вылазки против самцов другого — выискивая и убивая врагов. Такой обычай сильно отличается от привычек многих других территориальных животных, которые, выгнав нарушителя границы, на этом успокаиваются. Результатом такой войны может стать захват вражеской территории. Но стоит ли так рисковать из-за столь сомнительной награды? Нет, победителей ожидает не территория, а нечто гораздо большее — молодые самки побежденной группы[67].
Если наша привычка воевать напрямую уходит корнями в обезьянью вражду между группами самцов за обладание самками, для которых территория — лишь средство достижения репродуктивного успеха, то мужчины современных «нецивилизованных» племен должны воевать, скорее, за женщин, чем за территорию. Антропологи долго настаивали на том, что войны ведутся из-за недостатка материальных ресурсов — в частности, белка, которого в традиционных сообществах действительно часто не хватает. Поэтому когда в 1960-х Наполеон Шаньон (Napoleon Chagnon), выросший на этих идеях, поехал в Венесуэлу изучать жителей племени яномамо, его ждало потрясение: «Эти люди сражались не за то, за что они, якобы, должны были сражаться — ни за какие ресурсы. Они дрались за женщин»{315}. Или, по крайней мере, так они говорили. У антропологов есть традиция: нельзя верить тому, что говорят сами люди. Все смеялись над Шаньоном, поскольку он поверил своим респондентам. Как он заметил, «антропологу разрешают говорить, что война начинается из-за желудка, но не разрешают говорить, что она начинается из-за гонад». Шаньон снова и снова возвращался к яномамо и в итоге накопил ошеломляющее количество материала, не оставляющего сомнений: мужчины — независимо от социального ранга — убивавшие других мужчин (их называют унокаи), имели больше жен, чем те, которые никого не убивали{316}.
У яномамо и война, и насилие происходят, в первую очередь, из-за секса. Война между двумя соседними деревнями разражается из-за похищения женщины или из-за покушения на такое похищение, и всегда заканчивается переходом женщины из рук в руки. Внутри деревни самая частая причина насилия — ревность. Если поселение слишком маленькое, на него наверняка нападут, чтобы забрать женщин, а если слишком большое, оно обычно разваливается из-за внутренней вражды на почве ревности. У яномамо женщины — универсальная валюта и награда за насилие. Жестокая смерть — обычное дело в этом сообществе. К 40 годам какой-нибудь близкий родственник у 2/3 яномамо уже обязательно бывает убит. Не то, чтобы это притупляет боль или страх смерти. Для людей этого племени, покидающих пределы своего леса и оказывающихся во внешнем мире, встреча с законами оберегающими жизнь, становится настоящим и страстно желанное чудо. Греки с любовью вспоминали, как на смену обществу мести пришло общество законов — об этом рассказывает миф о подвиге Ореста. Согласно Эсхилу, он убил Клитемнестру за то, что та убила Агамемнона, но Афина убедила фурий вынести судебное заключение и прервать череду кровавых междоусобиц[68]. Томас Гоббс (Thomas Hobbes) не преувеличивал, когда среди условий жизни древнего человека назвал «постоянный страх и опасность насильственной смерти». Впрочем, он не настолько прав во второй и более известной части этого предложения: «жизнь человека была одинокой, бедной, отвратительной, жестокой и короткой».
Шаньон считает общепринятое мнение о том, что люди сражаются только за редкие ресурсы, ошибочным: если они редкие, то сражаются, если нет — нет. «Зачем, — говорит он, — сражаться за орех монгонго, если смысл обладания им — в том, чтобы у тебя было больше женщин? Почему не сражаться сразу за женщин?» Большинство человеческих сообществ, как он считает, не стесняет нехватка ресурсов. Яномамо могли бы легко расчистить новые участки от леса, чтобы выращивать больше овощных бананов, но тогда у них было бы слишком много еды{317}.
Насилие у яномамо — не какое-то исключительное явление. Все исследования дописьменных сообществ, проведенные до того момента, как национальные правительства установили в них законы, обнаружили высокий уровень бытового насилия. Согласно одному такому исследованию, четверть всех мужчин была убита другими мужчинами. И главным мотивом был секс.
Основополагающий миф западной культуры, «Илиада» Гомера, повествует о войне из-за похищения Елены. Историки уже давно решили, что это обстоятельство — не более, чем предлог для начала территориальной конфронтации между греками и троянцами. Но стоит ли нам судить так свысока? Может, яномамо действительно воюют из-за женщин, как они и говорят? Может быть, греки Агамемнона тоже начали войну из-за женщины, как и рассказал Гомер? «Илиада» начинается со ссоры между Агамемноном и Ахиллесом: первый захотел забрать у второго наложницу Брисеиду. Из-за этого раскола, вызванного спором из-за женщины, греки едва не проиграли всю войну, которая, в свою очередь, началась тоже из-за женщины.
В доземледельческих сообществах насилие также могло быть путем к репродуктивному успеху — особенно, во время неразберихи. В самых разных культурах взятыми на войне пленниками были, в основном, женщины. Но отголоски этого доходят и до наших дней. Возможность насиловать женщин побежденной стороны зачастую мотивировала солдат не меньше, чем патриотизм или страх. Зная все это, генералы нередко закрывали глаза на различные эксцессы, а также позволяли женщинам следовать вместе с частями. Даже в XX веке поход в публичный дом был более или менее основной причиной кратких отлучек личного состава ВМФ. А уж изнасилования сопровождают войны до сих пор. В 1971 году за время девятимесячной оккупации восточного Пакистана (сейчас — Бангладеш) солдаты войск Западного Пакистана изнасиловали до 400 тысяч женщин{318}. В 1992 году в Боснии сообщения об организованных лагерях, где сербские солдаты насиловали женщин, стали слишком частыми, чтобы их можно было игнорировать. Дон Браун (Don Brown), антрополог из Санта-Барбары, вспоминает свои дни в армии: «Мужчины говорили о сексе день и ночь — и они никогда не говорили о власти»{319}.
Природа мужчины, таким образом, состоит в использовании возможностей — буде они представятся — для полигамного спаривания, а также в использовании богатства, власти и насилия в качестве средств для достижения репродуктивного успеха в конкуренции с другими мужчинами (хотя обычно при этом устойчивые моногамные отношения в жертву не приносятся). Это не очень лестная картина, и она рисует природу, во многом противоречащую современным этическим установкам: моногамии, верности, равенству, справедливости и свободе от насилия. Но моя задача — описание, а не предписание. И в природе человека нет ничего неизбежного. Как сказала в «Африканской королеве» героиня Кэтрин Хэпберн (Katharine Hepburn) герою Хамфри Богарта (Humphrey Bogart), «природа, мистер Оллнат, это то, над чем мы в этом мире должны подняться».
Кроме того, долгое царство полигамии, начавшееся в Вавилоне около четырех тысяч лет назад, в западном мире, так или иначе, подошло к концу. Официальные наложницы превратились в неофициальных любовниц, а последние стали охраняемыми от жен тайнами. К 1988 году политическая власть, лишенная прежней способности делать своего обладателя полигамным, оказывалась под ударом из-за любого подозрения в неверности. Если китайский император Фэйди когда-то содержал в гареме 10 тысяч женщин, то Гэри Харт (Gary Hart), борющийся за власть над самой мощной державой мира, не смог управиться с двумя.
Что же случилось? Христианство? Вряд ли. Оно сосуществовало с полигамией многие века, и христианские институты преследовали свои интересы так же цинично, как это делал бы любой мирянин. Права женщин? Борьба за них началась слишком поздно. Викторианская женщина имела столько же веса в делах своего мужа, сколько и в Средневековье. Ни один историк до сих пор не может объяснить, что изменилось, но, среди прочего, предполагают: короли стали настолько нуждаться во внутренних союзниках, что им пришлось отказаться от деспотической власти. Так родилась своего рода демократия. Едва моногамные мужчины смогли проголосовать против полигамистов (а кто не захочет сбросить соперника, если очень хочется оказаться на его месте?), участь последних была решена.
Деспотическая власть, пришедшая с цивилизацией, снова пала. Все это похоже на какую-то аберрацию в истории человечества. До «цивилизации» и начиная с демократии мужчины не имеют возможности накопить такую власть, которая бы позволяла самым успешным из них становиться полигамными деспотами. Лучшее, на что могли рассчитывать плейстоценовые мужчины — одна или две верные жены и несколько случайных связей (и то лишь в случае, если их охотничьи или политические способности были достаточно велики). Лучшее, на что мужчины могут надеяться сегодня — симпатичная молодая любовница и преданная жена, которую можно менять примерно раз в 10 лет. Все опять вернулось к самому началу.