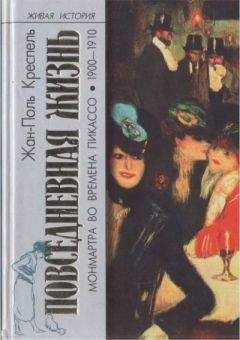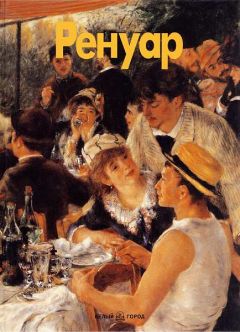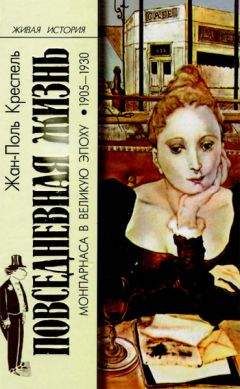Художники Академии составляли некое франкмасонское братство, высшие чины которого — «дорогие мэтры» — поддерживали друг друга и распределяли щедро оплачиваемые государственные заказы строго среди своих; речь идет о монументально-декоративном оформлении театров, университетов, зданий суда, а также об официальных портретах. Значительно меньше ценились пейзажи, а потому представители барбизонской школы[21] считались художниками второстепенными. Лишь после того, как сам император[22] купил один из пейзажей Коро, на последнего наконец обратили внимание.
Поток крупных государственных заказов, значительный и во времена Второй империи, буквально наводнил рынок Третьей республики — именно в этот период были предприняты реконструкция и реставрация памятников, полностью или частично разрушенных коммунарами. Республика, желавшая упрочить свое господство, стремилась проявить себя в меценатстве и снискать в покровительстве искусствам славу, не меньшую, чем во времена Франциска I[23] или Людовика XIV.[24] Строительство здания Гранд-опера архитектора Гарнье (которое к 1870 году еще не было завершено), а также здания городского муниципалитета, Сорбонны и Дворца правосудия, Французского театра и Счетной палаты обеспечило работой сотни художников, живописцев и скульпторов на целых тридцать лет.
Государственные служащие
Получавших львиную долю основных заказов «дорогих мэтров» по их социальной значимости вполне можно приравнять к высокопоставленным государственным чиновникам; да они и сами прониклись важностью выполняемой миссии. Одному из них даже пришла в голову нелепая идея кодифицировать собственные привилегии: «В члены корпорации будут приняты лишь те художники, которые после сдачи экзамена на техническое мастерство докажут неоспоримость своих способностей. Только они вправе ставить в дальнейшем после своей подписи официальный знак, указывающий публике, что картина, демонстрируемая в галерее или на выставке, выполнена профессионалом высокого уровня…»
Привилегированные художники, вполне удовлетворенные своим особым положением, часто, подчиняясь стадному чувству, жили неподалеку друг от друга, стремясь сплотиться в единую группу. Большая их часть обитала в XVII округе — квартале, где всегда селилась крупная буржуазия. Здесь жили Детай и Мейссонье, чьи квартиры были неподалеку от бульвара Мальзерб, Бенжамен Констан проживал на улице Ампер, Ройбе — на улице Прони; Альфонс де Невиль, автор картины «Последние патроны», Эннер, Жерве и Лермит также предпочитали этот квартал остальным, поскольку почти все знаменитости, литературные и театральные, обитали именно здесь. Даже сегодня в XVII округе можно отыскать особняки мэтров-академиков.
Артистический кавардак
Интерьеры той эпохи несли на себе отпечаток вкусов обитателей и их любви к всевозможному старью, принесенному с «блошиного рынка». Октав Мирбо, поддерживавший импрессионистов и хуливший художников-академистов, в журнале «Жиль Блаз» описывает мастерскую той поры: «Мастерская живописца Лоиса Жамбуа, несомненно, одна из прелюбопытнейших. Восхитительны старые сундуки и редчайшие ковры, есть два полотна Карпаччо и три картины Боттичелли, несколько этюдов Росетти и Берн-Джонса; полный арсенал старинного оружия, украшенного насечкой, сани, возившие императрицу Екатерину по замерзшей Неве, портшез, в котором носили маркизу де Полиньяк в кружевной тени Версальского парка; персидская вышивка рядом с арабскими клинками, множество византийских мадонн и итальянской посуды, оловянные изделия матовых голубоватых оттенков и сверкающие японские фарфоровые вазы, пузатые и узкогорлые, с изображениями странных цветов и священных животных; замечательный аквариум, где среди причудливых водорослей плавают шестигорбые рыбы, пойманные у берегов Ориссы. Следует еще сказать и о широчайших диванах, покрытых шкурами черных медведей и мертворожденных тигров, с множеством подушечек, на которых вышивка соседствует с золотой филигранью, и о высоких восьмистворчатых ширмах, с замысловато спускающимися драпировками, создающими в огромном помещении интимные и таинственные уголки. У ширм стоит множество канапе, низких пуфов и переносных столиков, покрытых китайским лаком и ассирийской мозаикой…»
Разумеется, насмешник Мирбо несколько искажает действительность, но вполне возможно, что таким был интерьер мастерской Бонна, известного собирателя всевозможного старья, и даже мастерской Жерома, женившегося на одной из дочерей Гупиля, крупного торговца произведениями искусства и антиквариатом в эпоху конца Второй империи и начала Третьей республики. Защитник привилегий Института, Жером всегда был непримиримым врагом импрессионистов.
Импрессионисты же, в свою очередь, презирали XVII округ, в этой среде были более популярны кварталы Батиньоль и Монмартр, уже тогда изобиловавшие увеселительными заведениями, порой довольно вульгарными. Один только Фантен-Латур, не принадлежавший ни к одной из группировок и даже среди независимых художников слывший «кошкой, которая гуляет сама по себе», выбрал для жительства левый берег Сены.
Институт почувствовал, опасность
Благополучных привилегированных художников охватило смятение, когда среди них стали появляться отщепенцы, не только ставившие свое творчество выше официального искусства, но даже отрицавшие его. И хотя далеко не все из них ставили под сомнение особое положение Салона и Института, их поспешили объявить опаснейшими революционерами и обвинить в том, что они своей живописью подрывают основы существующего строя.
Представители Института и их последователи, сумевшие прежде успешно отринуть творчество Делакруа, Коро, Курбе, Милле и Домье, вдруг почувствовали в новом движении реальную угрозу и решили использовать все имевшиеся у них средства, чтобы уничтожить ересь на корню. Провозгласив себя защитниками традиций в живописи и порядка в обществе, «дорогие мэтры» стали вершить гражданский суд в сфере искусства и предали анафеме новаторски настроенных художников, за что были тут же поддержаны громкими рукоплесканиями критики и конформистски настроенной публики, по большей части буржуазной, привыкшей к темной гамме цветов, историко-религиозной тематике и парадным портретам… Сюжеты из повседневной жизни и светлая гамма вызывали у них лишь недоумение. Они смутно чувствовали, что выскочки-художники что-то затевают против Салона.
Импрессионисты и Салон
Забавно, но большинство живописцев, в шутку прозванных «импрессионистами», никогда и не думали оспаривать роль Салона, напротив, они мечтали лишь о том, чтобы быть принятыми в нем, получив доступ к премиям и наградам. Мане, например, работал, думая лишь о Салоне. Как утверждал Жак Эмиль Бланш, Салон стал навязчивой идеей Мане, мечтавшего о лаврах музейного художника. Не помышляли отвергать роль Салона ни Моне, ни Ренуар, а Сезанн откровенно заявлял, что мечтает попасть в «Салон Бугро». И в конце концов этого добился. Правда, это произошло по чистой случайности: в 1882 году благодаря Гийоме, члену жюри, имевшему право вне конкурса пригласить по своему выбору одного художника. Так в качестве «ученика Гийоме» Сезанн впервые попал в число художников, выставлявших свои работы в Салоне.
Обычаи жюри
До конца столетия, то есть до создания группы «независимых» художников и Национальной академии художеств, каждая выставка в Салоне становилась важнейшим событием в художественной жизни Франции. Уже за несколько месяцев до его открытия художники начинали работать над картинами, предназначенными специально для выставки. Наконец работы выносились на суд сорока членов жюри, и начинались бесконечные совещания. При Наполеоне III жюри возглавлял граф де Ньюверкерке, главный надзиратель изящных искусств, ярый враг художников-новаторов, как пейзажистов из Фонтенбло, так и Курбе. «Это живопись демократов, людей, не меняющих нижнего белья и при этом пытающихся получить доступ в свет; их искусство мне неприятно и отвратительно!» — вот одно из его высказываний, ставшее широко известным. Итак, члены жюри вовсю плели интриги в салонах, кафе, кулуарах Института и даже в министерских приемных; ради получения хорошего местечка, благоприятного отзыва или награды художники шли на всё. Что касается наград, этой тяжелой артиллерии критиков и журналистов, пускаемой в ход лишь в тот момент, когда жюри уже обменивается словечками: «Уступите мне это место, а уж я…», — то они оставались на десерт: жюри осыпало милостями лишь избранных.
Как пишет бывший всему этому свидетелем Жак Эмиль Бланш, заседания жюри по поводу распределения премий длились неделями; следуя за смотрителями галерей, господа-заседатели переходили из одного помещения в другое, пока наконец перед входом в зал заседаний не закрывались плотно портьеры и председатель не поднимал колокольчик. Словом, все было обставлено чрезвычайно торжественно; а в это самое время сотни художников пытались разузнать о своей участи через какого-нибудь служащего и слонялись по Дворцу промышленности, с нетерпением ожидая, присудят ли им премию, которая позволит хотя бы год не задумываться о хлебе насущном.