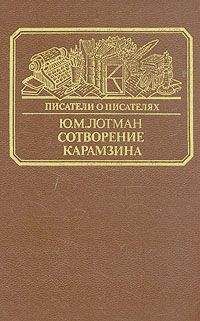Достаточно сравнить гордый, порывистый и нетерпеливый, размашистый почерк Радищева с мелким, филигранным, скорей похожим на какой-то таинственный узор и заставляющим часто прибегать к увеличительному стеклу почерком Кутузова, чтобы почувствовать разницу характеров. Кутузов, которого Карамзин называл «любезный меланхолик», был застенчив и склонен к печальным размышлениям. Через всю жизнь он пронес одну неразделенную любовь — к Екатерине Ильиничне Кутузовой, жене своего полкового командира. Екатерина Ильинична писала ему чувствительно-кокетливые письма, упрекала за молчание («Молчание ваше не есть целительное средство для чувствительных нерв моих, которые и так довольно уже расстроены» [35]), советовала, «чтоб вы были благополучны», жениться, но тут же, переходя на французский язык, добавляла: «Je sens que je parle contre moi» [36]. «С некоторого времени, я не знаю отчего, je me reproche de vous savoir si isole commes vous etes, vous qui meritez tant a avoir une compagne a vivre heureux [37] [38]. Кутузов так и остался до смерти холостяком. Свое печальное одиночество он скрашивал сентиментальной дружбой с семьями Плещеевых и Голенищевых-Кутузовых, в каждой из которых у него было по «невесте» 6–8 лет, писавшей ему сентиментальные французские письма.
Кутузов был одним из образованнейших людей своего времени: знаток философии и литературы, он был поклонником английского предромантизма, переводчиком Юнга, пропагандистом Шекспира, Мильтона в ту эпоху, когда ни знание английского языка, ни влияние английской литературы еще не было распространено в России.
Кутузов оказал сильное воздействие на молодых литераторов Петрова и Карамзина, для которых он, несмотря на разницу возраста, скоро сделался не только «братом» и масонским наставником, но и близким другом. Именно благодаря ему, в доме Типографической компании установилась предромантическая атмосфера и определилось направление литературных вкусов.
С Александром Петровым Карамзин познакомился, вероятно, еще во времена пребывания в пансионе Шадена. Есть основания полагать, что они вместе бегали в университет слушать лекции Шварца по философии и педагогике, о которых тогда говорила вся Москва. Петров был старше Карамзина, и его литературные вкусы сложились раньше. У него был бесспорный талант критика, чему способствовал острый, насмешливый ум и развитое чувство иронии, которой явно не хватало «чувствительному» Карамзину. От Петрова осталось лишь несколько переводов и 9 писем к Карамзину. Архив его был сразу же после его ранней смерти сожжен его братом — осторожным чиновником. Шел 1793 год, и хранить дома лишние бумаги не рекомендовалось.
Бывают яркие таланты, обещающие много, но мало или почти ничего не успевающие создать. Тепло и свет их таланта передаются потомству не прямо, а через творчество тех, кто зажег от них свой огонь. Таков был Андрей Тургенев, таковы были Станкевич и отчасти Веневитинов. Таков был и Александр Андреевич Петров.
Предромантическую атмосферу «масонского дома» поддерживал и доживавший там полугений-полуюродивый, друг Гёте, ученик и поклонник, а потом враг и противник Канта, литературный бунтарь и демократ Якоб Ленц. Разговоры с ним донесли до Карамзина ту живую, непосредственную атмосферу, тот «воздух» бурлившей тогда немецкой литературы, который не передается через страницы книг, а постигается лишь в непосредственном общении.
Организационный талант Новикова проявлялся, как мы уже сказали, в том, что он умел найти каждому именно то место, на котором тот мог лучше всего развернуть свои способности. Карамзина он привлек к участию в составлении и редактировании первого русского журнала для детей «Детское чтение». Соредактором Карамзина был Петров.
Но у Новикова был еще один талант — тактичность. Его бурная активность не тяготила его друзей, поскольку не теснила ничьей воли. В хаосе крепостнического деспотизма, стяжательства, погони за чинами, той узаконенной безнравственности, о которой писал Фонвизин:
…всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман [39],
мир Новикова — Кутузова представлял нравственный оазис. Бескорыстие было здесь естественной нормой, самопожертвование — бытовым явлением. То, что Кутузов отдал все свое имущество Новикову на общее дело (после ареста Новикова он умер в Берлине в долговой тюрьме — не в переносном, а в прямом смысле от голода!), или то, что он, когда Радищев, посвятив ему «Путешествие из Петербурга в Москву», отрезал тем самым ему пути возвращения на родину (его было велено арестовать на границе), не только не упрекнул своего друга, а имел смелость посылать ему письма в Сибирь и в других письмах, зная, что их читают в «черном кабинете», писать: «Я разлучен от моего друга, может быть, навсегда; но его дружба пребывает со мною» [40], — никого не удивляло.
Когда позже Карамзин, сам находясь в весьма стесненных материальных обстоятельствах, отдал почти все свое состояние попавшему в долги Плещееву (Карамзину пришлось продать братьям свою часть имения), хлопотал по этому делу и после никогда об этих деньгах не вспоминал, когда, находясь уже в разладе с Новиковым и масонами, он единственный имел смелость печатно возвысить голос в защиту гонимого Новикова, и всякий раз, когда он обнаруживал благородство, вошедшее в самое сущность его натуры, мы невольно вспоминаем атмосферу новиковского окружения в Москве 1780-х годов.
Литературных занятий Карамзина никто не стеснял. Карамзин переводил для «Детского чтения», писал стихи, перевел и опубликовал «Юлия Цезаря» Шекспира и «Эмилию Галотти» Лессинга. Но более всего он учился.
Позже М. Погодин, понимая, какие знания нужны историку, недоумевал, как светский писатель, историк-дилетант, никогда не получивший никакого специального образования, сделался высоко профессиональным историком: «Что другой узнавал двадцатилетним опытом, при пособиях бесконечной начитанности, с советами целых факультетов, в ученой атмосфере, то Карамзин схватывал на лету, усматривал сразу, счастливо угадывал. Между тем он (курсив Погодина) беспрестанно учился» [41]. И дальше: «На удивительные, необыкновенные способности Карамзина, в этом отношении, не было обращено у нас достаточного внимания» [42].
Четыре года в новиковском кругу были заполнены для Карамзина упорной работой по самообразованию, и, когда он отправился в заграничное путешествие, в почтовую карету сел не робкий ученик, школяр, отправляющийся «людей посмотреть, себя показать», а молодой литератор, которому «удивительные, необыкновенные способности» помогли «в просвещении стать с веком наравне».
Но четыре года — долгий срок. Этот срок на четыре года приблизил Великую французскую революцию — в истории часто приходится вести отсчет от событий назад для того, чтобы восстановить правильную перспективу.
В России крестьяне бунтовали, императрица старела, Радищев писал «Путешествие из Петербурга в Москву»…
Над домом в Кривоколенном переулке собирались тучи.
В то время, как в кругу московских мартинистов радели о просвещении и искали глубокие истины, в мире европейского масонства кипели интриги. Разнообразные возникавшие «системы», как правило, оставались на бумаге или в воспаленных головах их фантастов-сочинителей. Однако масонские ложи, которые часто представляли собой нечто вроде филантропических клубов или своеобразного развлечения пресыщенных вельмож и ищущих смысла жизни интеллектуалов, вбирали в себя и авантюристов, и просто обманщиков, и честолюбцев, стремившихся таким образом сблизиться с влиятельными «братьями», и, наконец, фанатиков-мечтателей. Русские ложи в середине XVIII века придерживались «английской системы» и находились под руководством поэта и вельможи И. П. Елагина. Немецкие ложи, стремясь утвердить в России свое влияние, направили в Россию барона Рейхеля. В 1776 году «елагинская» и «рейхелевская» системы объединились. Наместным мастером был избран Н. И. Панин. В том же году приближенный и друг Павла Петровича кн. А. Б. Куракин привез из Стокгольма «шведскую систему», в которую был посвящен братом короля Карлом, герцогом зюдерманландским.
Новиков, который вступил в масонство еще в 1775 году, вместе с другими московскими «мартинистами», видимо, тяготился этими связями. В результате за границу был послан профессор Иван Егорович Шварц с целью добиться для русского масонства статуса самостоятельной провинции. В 1782 году конвент в Вильгельмсбадене провозгласил Россию самостоятельной масонской провинцией, освободив ее от шведского «ига». Однако положение московских искателей истины от этого только ухудшилось: они оказались в зависимости от берлинского масонства, во главе которого стояли честолюбивые проходимцы Вёльнер и Бишофсвердер. После скоропостижной смерти тридцатитрехлетнего Шварца связи с Берлином оказались в руках темного авантюриста барона Шредера.