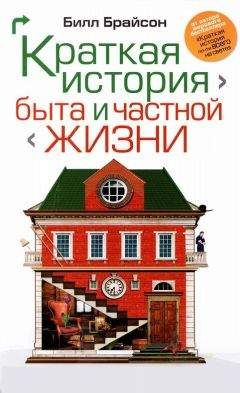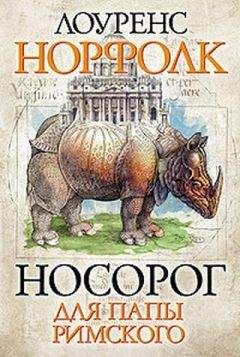Во второй половине XIX века тугие корсеты стали для врачей самым страшным кошмаром. В организме женщины не осталось ничего, что не страдало бы и не разрушалось из-за сдавливания шнуровкой и китовым усом. Корсеты не позволяли сердцу свободно биться, в результате кровь застаивалась, что в свою очередь приводило ко множеству болезней — от недержания мочи, диспепсии и печеночной недостаточности до застойной гипертрофии матки и даже потери рассудка. Журнал Lancet регулярно исследовал опасности, которые представляло ношение тугих корсетов. Рассказывали, что по крайней мере одна женщина умерла из-за сдавливания грудной клетки: ее сердце не выдержало такой нагрузки. Некоторые врачи считали, что тугие корсеты сильно снижают сопротивляемость туберкулезу.
Ношение корсетов неизбежно связывалось со стремлением женщины выглядеть сексуально. Появилось немало литературы, где ношение корсета сравнивалось с мастурбацией. Авторы опасались, что, сжимая органы вблизи репродуктивной зоны, корсеты чрезвычайно усиливают «эротические желания» и, возможно, даже вызывают непроизвольные «сладострастные спазмы».
Постепенно эти страхи распространились на все части тела, которые женщины «упаковывали» в тугую одежду. Даже тесные туфли предположительно вызывали «опасное покалывание», если не «полномасштабный спазм». Некто Орсон Фаулер написал книгу под названием «Тугая шнуровка и ее влияние на физиологию и френологию, или Вред, причиняемый разуму и телу путем сдавливания органов, отвечающих за плотские наслаждения; наблюдаемые при этом замедление и ослабление жизненно важных функций»; автор утверждал, что неестественное кровообращение вызывает прилив крови к мозгу женщины, что может привести к необратимым изменениям психики.
Единственная функция организма, которая действительно страдала из-за ношения тугих корсетов, это репродуктивная. Многие женщины носили корсеты, будучи уже на последних месяцах беременности, и даже шнуровали их потуже, чтобы как можно дольше скрывать свое интересное положение: ни одна из них не хотела явно признавать, что участвовала в действе, вызывающем непристойные «сладострастные спазмы».
В викторианскую эпоху дамам запрещалось даже задувать свечи в смешанной компании, чтобы мужчины не видели, как они вытягивают губы. Они не могли сказать, что идут «в постель», ибо эта фраза вызывала возбуждающие образы; в данном случае им следовало говорить, что они отправляются «отдыхать». Обсуждая одежду, также прибегали к эвфемизмам. Брюки стали называться «нижняя часть облачения» или просто inexpressibles («невыразимые»), а нижнее белье — linen («полотно»). Между собой женщины могли шушукаться о нижних юбках и чулках, но остальные предметы одежды, надеваемые на голое тело, были абсолютно запрещено упоминать в разговоре с кем бы то ни было.
Впрочем, на самом деле общество было далеко не таким ханжеским, каким хотело казаться. В середине века появились химические красители, зачастую весьма насыщенные и яркие; первыми предметами одежды, на которых применялись такие красители, стало нижнее белье. Встал логичный, но скандальный вопрос: для чьих глаз предназначаются столь пестрые вещи?
Такой же популярной и не менее скандальной стала вышивка на нижнем белье. В тот же год, когда английских школьниц похвалили за то, что они неделями ходят в убийственно тугих корсетах, Englishwoman's Domestic Magazine сетовал на то, что «вышивка на нижнем белье, ставшая модной в последнее время, греховна по своей сути; молоденькая барышня тратит целый месяц на то, чтобы украсить свое белье, однако ее старания все равно не увидит никто, кроме прачки».
В те времена женщины не носили бюстгальтеры. Корсеты приподнимали и поддерживали грудь снизу, но лифчики на бретелях (как мне говорили) гораздо удобней. Первым, кто это понял, был Лумен Чапмэн из Кэмдена, Нью-Джерси, который в 1863 году получил патент на «подушечки для груди». За период с 1863 по 1969 год в Соединенных Штатах было выдано 1230 патентов на бюстгальтеры. В 1904 году компания Чарльза Р. Дебевуа впервые употребила слово brassiere (бюстгальтер, лифчик), произошедшее от французского слова, означающего «плечо».
Хочу развенчать один маленький, но стойкий миф. Иногда пишут, что лифчик изобрел некий Отто Тицлинг. На самом же деле, если этот человек и вправду существовал, то он не имел никакого отношения к изобретению женского белья.
На этой слегка обескураживающей ноте предлагаю перейти в детскую.
I
В начале 1960-х французский историк Филипп Арьес сделал в своей чрезвычайно знаменитой книге «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» поразительное заявление. Он написал, что до XVI века (как минимум) такого понятия, как детство, не существовало. Разумеется, сами дети существовали, однако их жизнь ничем не отличалась от жизни взрослых. Арьес с уверенностью утверждал, что идея детства появилась только в викторианскую эпоху.
Утверждения Арьеса основывались лишь на умозаключениях, большая часть которых сейчас подвергается сомнению, но его взгляды вызвали глубокий отклик в общественном сознании. Вскоре и другие историки заявили, что в прошлые века детьми пренебрегали и не слишком их любили.
«В традиционном обществе матери равнодушно относились к детям, которым еще не исполнилось двух лет», — писал Эдвард Шортер в своей книге «Создание современной семьи» (1976). Причиной этого, по мнению автора, была высокая детская смертность. «Вы не можете позволить себе привязываться к ребенку, который, возможно, скоро умрет», — объясняет Шортер.
Это мнение целиком и полностью разделяла Барбара Такман, которая спустя два года написала в своем бестселлере «Далекое зеркало»: «Из всех характеристик, отличающих Средневековье от современности, самая поразительная — это относительное отсутствие интереса к детям». Инвестировать любовь в ребенка было слишком рискованно. Такман назвала это «неблагодарным занятием». Якобы проявления такой любви повсеместно считались бесполезной тратой энергии, и взрослые относились к своим младенцам безо всяких эмоций, как к «продукту»: «Ребенок рождался и умирал, а его место занимал другой».
Арьес объяснял это так: «Долгое время семьи стремились завести побольше детей, чтобы выжило хотя бы несколько». Подобное мнение разделяли практически все историки детства; прошло целых двадцать лет, прежде чем появились первые сомнения: кое-кто понял, что неправильно рассматривает человеческую природу, не говоря уже о пренебрежении известными историческими фактами.
Несомненно, дети часто умирали, и родителям приходилось с этим мириться. В прошлые столетия мир представлял собой бесконечные ряды маленьких гробиков. Статистика говорит о том, что одна треть младенцев умирала в первый год жизни и почти половина детей не доживала до пяти лет. Смерть регулярно наведывалась даже в самые лучшие дома. Стивен Инвуд в свежей «Истории Лондона» отмечает, что историк Эдвард Гиббон, выросший в богатой семье в благополучном квартале Патни, еще в раннем детстве потерял всех своих шестерых братьев и сестер.
Нельзя, впрочем, сказать, что родители меньше скорбели о своих утратах, чем сегодня. У мемуариста Джона Ивлина и его жены было восемь детей, шестеро из них умерли в раннем возрасте. Ивлин с супругой тяжело переживали каждую смерть. «В моей жизни больше никогда не будет места радости», — написал Ивлин в 1658 году после того, как спустя три дня после своего пятилетия умер его старший сын.
Писатель Уильям Браунлоу, который на протяжении четырех лет каждый год терял ребенка, отмечал, что эта «цепь несчастий» разбивает его сердце. Однако ему и его жене пришлось пережить еще большее несчастье: в течение последующих трех лет у них умерли оставшиеся трое детей.
Лучше всех родительское горе сумел передать Уильям Шекспир, который вообще как никто другой умел выражать человеческие чувства. Вот строки из драмы «Король Иоанн», написанной вскоре после смерти его одиннадцатилетнего сына Хамнета (1596):
Да, место сына скорбь взяла:
Дитятею лежит в его постели,
Со мною ходит, говорит как он,
В лицо глядит мне светлым детским взглядом,
На мысль приводит милые движенья,
И крадется в его пустое платье,
И платье то глядит моим ребенком![86]
Такие слова не мог написать человек, считающий детей просто «продуктом». Нет никаких оснований предполагать, что в прошлом родители были равнодушны к собственным детям. Лишним доказательством этого служит название той комнаты, в которой мы сейчас находимся[87].
Слово nursery впервые появляется в английском языке в 1330 году; с тех пор этот термин прочно вошел в обиход. Комната, в которой все служит детским потребностям, вряд ли могла появиться в доме, где родители равнодушны к собственным отпрыскам. Слово «детство» (childhood) не менее красноречиво. Оно появилось в английском языке свыше тысячи лет назад (оно встречается уже в Евангелии из Линдисфарна примерно в 950 году). Неизвестно, какую эмоциональную нагрузку оно несло в те давние времена, но тем не менее у нас нет оснований утверждать, что раньше к детям относились без души.