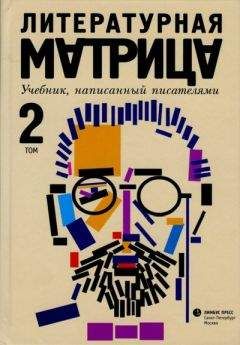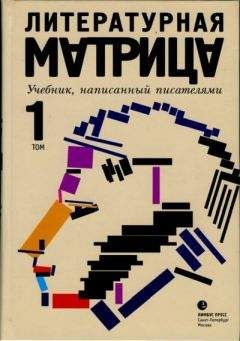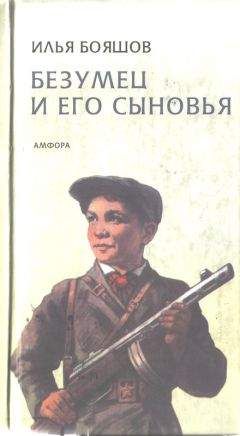Как бывает с любым народом в последние времена, те, кого пишет Андрей Платонов, всё решительнее отказываются от обычного способа продолжения себя и своего рода. Теперь это больше не страна детей — их слишком долго вынашивать и выкармливать, они чересчур легко умирают от голода, холода и болезней — а страна идей. Соответственно, место детей заступают тысячные толпы учеников, которые оставили дом, где они родились, выросли, оставили семьи и, не ведая сомнений, идут за своими пророками и учителями.
Это страна философов и мечтателей, которые учат, что, как и в первые дни творения, нет никакой разницы между человеком и животным — все одинаково мучаются и страдают. (В «Котловане» Михаил Медведев — медведь-пролетарий, молотобоец, обладающий звериным классовым чутьем, безошибочно выявляет всех деревенских кулаков.) Больше того, страна, которая и о земле, равно как и о машинах, думает как о человеке, так же их чувствует и понимает («В прекрасном и яростном мире»). То есть мир родства всего со всем и даже больше того — не родства, а, вслед за Вернадским и его учением о ноосфере[386], народ Платонова убежден, что — от верхнего слоя Земли до всего того, что на Земле, и даже воздуха над Землей, — мы есть единый организм.
Эта страна науки и коммунизма, где труд будет не обязательным, сугубо добровольным делом, а за всех будет работать одно солнце («Чевенгур»), где не только человек, но и животные будут жить вечной жизнью, для чего их наиболее трущиеся, быстро изнашивающиеся части заменят на металлические (пищевод коровы в «Ювенильном море»).
Но главное — это народ, который еще недавно не умел (вдобавок, как сказано у Иоанна Богослова, не мог надеяться) отличить Спасителя от антихриста и оттого, чтобы не погубить свои души, шел на костер, а тут он вдруг разом прозрел, обрел наконец истину.
Однако счастье платоновских героев редко длится долго, потому что из этого бесконечно привлекательного братства, справедливого и разумного, из возможности самим человеком воскрешать себе подобных вдруг один за другим начинают вылезать страшные следствия.
Если зло обратимо и смерть не вечна, то, коли сейчас мы убиваем тех, кто нам мешает самым быстрым и легким для народа способом построить земной рай, — греха в этом нет: позже ничто не помешает нам вернуть отнятое — воскресить погибших для совместной жизни в прекрасных кущах. Похоже дело обстоит и с ноосферой. И тут в убийстве человека человеком нет греха — ведь все мы части одного всемирного организма, в котором ради общего блага вредные, больные клетки умерщвляются и поедаются другими, здоровыми и нужными. Создание этого всемирного организма в 1919 году Платонов, по-видимому, считал первоочередной задачей революции. «Дело социальной коммунистической революции, — пишет он в одной из статей, — уничтожить личности и родить их смертью новое живое мощное существо — общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы» (Платонов А. Сочинения. С. 132).
Этому существу, как и любому другому, чтобы выжить, естественно, необходима жесточайшая специализация: ведь теми клетками, которыми дышишь, трудно бегать, а теми, которыми смотришь на мир, нелегко переваривать пищу, и в статьях Платонова начала 1920-х годов эта тема возникает весьма часто. Так, он пишет (в русле идей Гастева и Уэллса): «Создание путем целесообразного воспитания строго определенных рабочих типов. С первого вздоха два ребенка должны жить в разных условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой механиком воздушного судна, то и воспитание их должно соответствовать этим целям, чтобы механик… чувствовал себя… в своем специфическом трудовом процессе счастливым, как в рубашке по плечам…Был в своей полной органической норме, в психофизиологической гармонии с внешней средой» (Платонов А. Сочинения. С. 132).
Трудовая нормализация «членов общества — в их „нарочном“ воспитании, искусственном изменении характеров, соответствующем производственным целям общества». Тут надо сказать, что в отличие от прозы, во многих своих статьях Платонов, конечно, и федоровец, и ультракоммунист. Честен он и там, и там, просто в публицистике договариваться ему ни с кем было не надо. В хорошей же прозе бал правит отнюдь не автор — только люди, которых он пишет, имеют там право голоса. Именно на их стороне правда жизни, и тот, кто не готов это признать, кто считает себя вправе диктовать персонажам, что они должны думать и делать, как понимать и окрестную жизнь, и собственную судьбу, тот никогда не напишет правдивой книги.
Язык платоновской прозы, наверное, самый искренний и самый независимый свидетель того, какую революцию Платонов ждал и к какой с радостью присоединился. Со стороны часто кажется, что в книгах писатель самовластен не только со своими героями, но и всеми словами языка может распоряжаться свободно, ни у кого и ничего не спрашивая. На самом деле нас и тут чуть ли не с пеленок держат в немалой строгости. С первого класса школы, наказывая двойками и вызовами родителей, учат грамматике, учат всякого рода ограничениям, связанным с разными литературными стилями, с тем, что речь устная совсем не равна речи письменной. В нас вбивают, что то, что могут сказать одни люди, совсем не обязательно могут сказать другие, и что можно сказать в одних обстоятельствах, вряд ли уместно в других. Сам тысячекратно наказанный за пренебрежение этими нормами в школе и при попытке поступления в университет, я сознаю действенность, жестокость этих запретов более чем ясно.
Некоторые из них давно описаны, формализованы и, как уже говорилось выше, попали в учебники, стали их основой, но есть и такие, что по-прежнему гуляют на свободе. Все же, когда одно слово оказывается рядом с другим, мы, как правило, способны сказать, лепо это или нет. То есть язык состоит из множества пересекающихся словарей и, думая, говоря, записывая, мы можем употреблять слова лишь одного из них, а отнюдь не всего языка. Из-за этих ограничений количество доступных нам слов в каждом конкретном случае уменьшается во много раз, и для того, чтобы речь зазвучала свежо, нужен талант или даже гениальность. Эти хорошо поставленные рядом слова мы запоминаем и повторяем друг другу с радостью. Конечно, литературные и языковые нормы тоже меняются, но в общем они куда консервативнее жизни. В любом обществе они — один из оплотов стабильности.
Разумеется, большевики, придя к власти, стремились упрочить свои права и привилегии. Для этого наряду с захватом мостов, банков и телеграфа необходимо было создать отдельный язык — первую внешнюю границу между собой и остальным миром. Способ раньше любых мандатов, удостоверений и пропусков распознать — кто свой, а кто враг, чужой. В этом новом языке, языке народа Андрея Платонова, благо он возник лишь вчера, слова еще не были обкатаны. Им еще не успели сделать макияж, подкрасить их и подмалевать, подобрать суффиксы, префиксы и окончания так, чтобы они хоть издали выглядели родными. Им еще не успели объяснить, что в том языке, в который они попали, им хотя бы из вежливости стоит склоняться перед старыми, коренными словами. И вот, попав в чужой монастырь, они не по злобе, а по незнанию его устава, не умея ни к чему приноровиться, ни с чем согласоваться, ломают, разрушают нормы и правила.
Считается, что именно широкое использование этих не прошедших огранку, по-чужому звучащих слов, делает прозу Платонова столь непохожей на прозу его современников. Мне, однако, кажется, что две другие вещи играют большую роль. Во-первых, Платонов без какого-либо страха ставит рядом слова из очень далеких словарей. Язык один, «новоязом» тут и не пахнет, просто мы не привыкли, что одними и теми же словами можно говорить о самом тонком, эфемерном, о страданиях человеческой души и таком грубом, материальном, как функционирование всякого рода машин и механизмов. Корень возможности, естественности подобной речи, как уже говорилось выше, — в убеждении Платонова, что нет границы межлу человеком и зверем и между живым и неживым тоже нет; все, что движется и работает, — все живое — и смело может обращаться к Господу.
И, по-моему, главное, что рвет грамматику в платоновских текстах, — 1917 год, время смыслов и вер; их напряжение, плотность и сделали платоновскую фразу. Смыслы не только смяли друг друга, они разрушили и этикет, который раньше существовал между словами. Их концентрация была такой, что они, даже не заметив, походя, вообще изничтожили литературу как изящную словесность, уничтожили правила и законы, по которым литература жила. Платоновская проза скорее сродни проповеди, причем не простой, а той, с какой обращаются к людям в последние времена. Отсюда же, кстати, целомудренность, аскеза его героев. В обычной прозе необходимы пустоты и воздух, много воздуха, иначе задохнутся сами слова, у Платонова же фраза вся целиком состоит из надежд и упований, она буквально захлебывается ими, потому что ждать осталось самую малость, а столько важного, решающего надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого еще можно спасти.