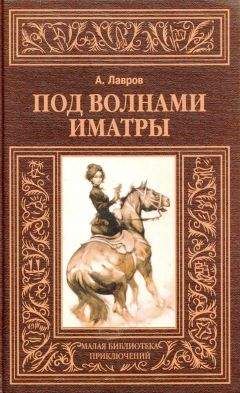В те же самые годы были изданы и две несколько загадочные книги Лафатера — «Тайный дневник» (1771) и «Неизмененные фрагменты из дневника наблюдателя самого себя» (1773) — о них еще пойдет речь.
Уже на рубеже 1774–1775 годов Й. Г. Циммерман, швейцарский врач и литератор, пишет Лафатеру из Ганновера, знаменательным образом соединяя замысел «Физиогномических фрагментов» и первый роман Гёте: собравшееся общество занято рассматриванием «физиогномических таблиц» Лафатера, то есть его собрания портретов; «радость, какую ты доставил всем, несказанна. С удивлением видел я, насколько же распространилось среди людей физиогномическое чутье, чего они и сами не ведают. Многие из присутствовавших дам делали при рассматривании гравюр замечания, до крайности меня поражавшие и одухотворенные. Среди этих лиц присутствовала и Гётева Лотта (на последней стадии беременности) и ее честный Альберт […]. Я весь дрожал, как осиновый лист, когда доставал из папки портрет Гёте; Лотта покраснела, но в остальном сохранила присутствие духа, не знаю, известна ли тебе фактическая сторона “Страданий Вертера” […]»[12].
В следующем, 1775 году Гёте посетил Лафатера в Цюрихе во время своего первого путешествия в Швейцарию вместе с двумя замечательными поэтами — графами Кристином и Фридрихом Леопольдом фон Штольбергами, а спустя четыре года вновь навестил его в Цюрихе, — тем временем Лафатер стал диаконом другой церкви — Святого Петра. Между тем публиковались тома «Физиогномических фрагментов» — великолепного замысла Лафатера, исполненного, в сущности, коллективно, при участии Гёте и Гердера[13]. Это и была настоящая вершина творчества Лафатера — тогда еще молодого человека, однако уже накопившего большой жизненный и писательский опыт, — впрочем, опыт односторонний, риториче-ски-книжный. Издание томов «Физиогномических фрагментов» пришлось на годы немецкого движения «Буря и натиск» — на некоторую кратковременную полосу судорожно-взбудораженного умственного брожения, которому название дала драма Ф. М. Клингера (1776). Это движение, несмотря на свою форсированную мужественность, имело точки соприкосновения и с сентиментальной чувствительностью и, собственно говоря, представляла собой один из крайних и временных флангов ее (само)истолкования, — Лафатер, напротив, тяготел к иному флангу, где чувствительности придавался оттенок изнеженно-женственного томления. В свою очередь Лафатер в те годы сближался с «бурными гениями», и, пожалуй, одной из явных точек схода между Лафатером и «штюрмерами» был именно культ гения. Благодаря путешествию в Германию и беседам с Гёте и близкими к Гёте писателями Лафатеру удалось выйти из своей учено-проповеднической скорлупы, в какой мере та еще сохранялась у него.
Тогдашние представления о гении были далеки от современных[14] и сохраняли зависимость от античных: латинский «гений» — это «дух», греческий «даймон», тот самый, что в важные минуты жизни остерегал Сократа, как узнаем мы из текстов Платона. Отсюда и у Лафатера кратчайшее уравнение:
«Гений — это гениус» — и пояснение к нему:
«Тот, кто замечает, воспринимает, прозревает, чувствует, мыслит, говорит, действует, слагает, сочиняет, поет, творит, сопоставляет, обособляет, соединяет, умозаключает, предчувствует, дает, берет — как если ему все диктовал или внушал гениус, незримое существо высшей породы, — у того гений; как если бы он сам был существом высшей породы — тот гений».
Различаются, в точности, обладающий гением и сущий гением; дух — даймон высмотрен ровно на полпути от духа-хранителя и вдохновителя — к внутреннему духу как свойству личности.
Что такое гений? На этот вопрос не может ответить тот, «кто не гений», и не ответит тот, «кто гений»[15], — перефразирование слов Руссо из его «Музыкального словаря».
Гениальность — в том, чему нельзя учить и чему нельзя выучиться. Гений — «нечто такое, что легче всего распознать и труднее всего описать. Характер же гения, всех его творений и воздействия — явление (Apparition)». Так являются ангелы Божии — они «не приходят» и «не уходят» — они «вдруг здесь» и «вдруг исчезают», явление ангела поражает до мозга костей, воздействуя на бессмертное в человеке, — явление ангела «оставляет после себя сладостный ужас,
слезы от страха, бледность, вызванную радостью. Таковы же действие и воздействие гения. Гений — Бог, который более близок к нам (propior Deus)»[16]. «Гений соединяет, чего никто не может соединить; разделяет, чего никто не может разъединить; он видит, и слышит, и чувствует, и дает и берет так, что всякий другой должен немедленно признать внутри неподражаемость всего этого, — творение чистого гения неподражаемо и возвышенно над любой видимостью подражаемого. Творение чистого гения бессмертно, как искра Божия, из какой оно истекает»[17].
«Существует несчетное множество разного вида гениев […]. Но каков бы ни был гений, сущность и природа всех их — это сверхприрода — сверхискусство, сверхученость, сверхталант — саможизнь! Путь его — это всегда путь молнии, или урагана, или орла — дивишься его бурному парению! слыша его шум! созерцая его величие! — но откуда и куда, неведомо — и следов его не видать»[18].
В этом своем тексте Лессинг как прозаик достигает большого подъема, передавая образ гениальности и постепенно впадая в «гениальный» (как называли это тогда) неукротимый гимнический тон отрывочных восклицаний.
«Гении — светочи мира! соль земли! Существительные в грамматике человечества! […] Человекобоги! Творцы! Разрушители! Открыватели тайн божеских и людских! Толковники Природы! Выразители невыразимого! Пророки! Первосвященники! Цари мира — какое божество соорганизовало и сложило — дабы открывать себе самому чрез них и чрез их творческую силу, и мудрость, и милость, — сотвори-тели величественности всего и отношения всего к вечному источнику всего: гении — о вас говорим […]»[19] (курсив наш. — А. М.).
Проследив затем за внешними и внутренними признаками «не-гениальности», Лафатер возвращается к своему образу гения, чтобы сказать о нем напоследок, возможно, самое важное: гений — это торжество видения; гений «видит, не наблюдая — то есть не желая видеть […], ему дано видеть, а это значит, во-первых, что видение гения — в сущности внутреннее и от внешнего не зависящее, и гений остается наедине с самой сущностью вещей, во-вторых же, что гении творят стремительно, молниеносно: гений — это не рассудок и не воображение, но взгляд — сама душа концентрируется во взгляде, это молниеносный взгляд быстро натянутой души» — душа, стало быть, подобна луку, а творчество — летящей стреле[20].
Гений поэтому еще и свет: «Подлинный, полный, цельный гений — он приносит свет, куда ни бросает свой взгляд; он, куда ни ступит, — мастер, пред собою и за собою он оставляет Эдем и пустыню […]»[21].
Нет ни малейшего сомнения в том, что Лафатер, рисуя образ гения, постоянно оглядывается на Гёте; Гёте был человеком глаза, зрения — в степени, не сопоставимой с умением видеть Лафатера, в своем физиогномическом замысле целиком ориентированного на внешность, вид, лицо, — значительно позднее переведенные Гёте, переложенные стихами строки Плотина о солнцеподобии глаза, который видит солнце, потому что отличается с ним одной и той же природой, ведут его мысль в этом самом направлении; видеть для гения уже значит создавать, творить, он сразу же видит — видит как целое — свое творение, подобно тому, как, едва успев взглянуть, он видит, провидит, самую суть дела; — нет ни малейшего сомнения в том, что такое представление о гениальном творчестве удерживалось в немецкой культуре в разных областях творчества и в разных немецких землях вплоть до 1910-х годов, причем оно продолжало постигаться тут в крайне близких понятиях: творец, едва явившись, тут же во мгновение ока и творит то, чего хочет (опера «Счастливая рука» А. Шёнберга, 1913); творец в минуту озарения творит так, как если бы ему все внушали сами небеса и хоры ангелов — стремительно, упоенно, без тени сомнения, самозабвенно-уверен-но (музыкальная легенда «Палестрина» X. Пфицнера, 1917). Такие представления, разумеется, обязаны своим существованием всей традиции осмысления гениального творчества, однако гётевско-ла-фатеровская составная в рамках традиции тут все же явственно просматривается; в традиции ведь было заложено и иное — представление о мучительном созидании на основе внутренней разъя-тости, о созидании тоже гениальном, — однако и Гёте, и Лафатеру таковое чуждо. Правда, Лафатер рассуждает о «флегме», которая пристала гению точно так же, как и доля «холерического» темперамента, однако возможная «холодность» гения — не то же самое, что отчаяние меланхолического художника, и она лишь указывает на непредсказуемый характер гения.