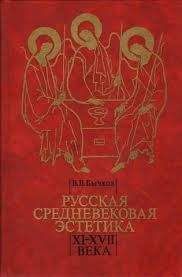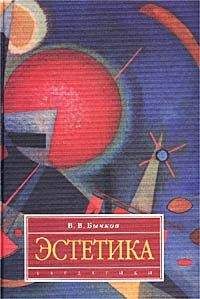Творчество Фидия, друга Перикла, воскрешает перед нашим умственным взором развитие личности, связанное с греческим просвещением второй половины V века. В его пластических образах заметны некоторые отступления от былой простоты воина-гражданина более ранних времен. Художественное начало местами переходит уже в то, что Плутарх назвал «тщеславием женщины, которую украшают драгоценными камнями». Своим каноном, охраняющим традиционный идеал мужественной человечности, Поликлет как бы возвращается к нравам предков. С этой точки зрения многие античные авторы предпочитали его Фидию. «Однако творчество Фидия, — пишет Игорь Ильин, — в свою очередь заключает в себе такие возможности развития, которых было лишено замкнутое в своих границах искусство великого аргосца».
Перенесите тот же алгоритм в другую историческую среду, и перед вами возникнет иной мир — более насыщенный субъективным содержанием, дерзостью воли, столкновением характеров — мир средних веков и Возрождения или более массовый, социальный, чреватый широкой исторической перспективой мир XIX века. Но при всей изменчивости и постоянном неравновесии отдельных сторон растущего общественного организма, преобладании различных духовных интересов и форм, колебании моральной силы в ту или другую сторону при каждом новом повороте общественной борьбы и смене ее участников, диалектика жизни останется той же самой. История переходит в систему.
Бывает, что прогресс как ограниченное, конечное явление превращается в собственную противоположность, приобретения ведут к утратам. Демократии впадают в то состояние, которое греки называли hybris — гордыней, нарушением внутренней нормы; более консервативные силы от этого выигрывают. Возникает что-то противоестественное, но исторически неизбежное — поворот счастья в пользу побежденных историей, прилив умов к реакционной стороне, возрождение монархий, религиозных систем. В философии происходит поворот к идеализму. Бывает и так, что самые справедливые народные движения совершаются под реакционным знаменем. Достаточно
вспомнить национальные войны народов Европы против Наполеона, в которых, по словам Маркса, возрождение было смешано с реакцией.
Что же это, круговорот? Отчасти да. Но понятия круговорота и поступательного движения от низшего к высшему соотносительны. Одно переходит в другое, и только в конкретных дифференциалах между ними прокладывает себе путь действительное развитие. Когда революционный поток застревает в узкой горловине, уровень воды поднимается, напор становится сильнее. Каков будет результат этого осложнения диалектического процесса, не всегда можно угадать, но в каждом цикле общественного движения заложена и возможность размыкания его, перехода на более высокую ступень. В этом — положительный шанс прогресса, источник нашего оптимизма. «Нет такого великого исторического бедствия, — писал Энгельс Н. Даниельсону, — которое бы не возмещалось каким-либо историческим прогрессом. Лишь modus operand! изменяется. Да свершится предначертанное!» 51
Когда опытные лидеры капитала овладевают социалистической идеей плана, чтобы воспользоваться ею для своих классовых целей, — это круговорот. Когда социалистическая демократия понимает, что нельзя управлять хозяйством и культурой военно-административным методом, что план нуждается в живом интересе миллионов людей и всякий контроль требует в свою очередь контроля над собой со стороны народных масс, это — размыкание цикла, борьба против круговорота и связанного с ним исторического разочарования. Не так легко дается эта наука, но она необходима. Даже самому развитому и богатому обществу грядущих поколений будет нужен коллективный Сократ, чтобы умерить собственное чванство и разумно оценивать свои силы, не превращая прогресс науки и техники в Молоха потенциальной бесконечности, поглощающего возможную полноту развития в каждый данный момент (гётевское «постой, мгновение, ты прекрасно!»).
Как видит читатель, тема пластической гармонии и тождества самому себе, на первый взгляд столь изысканная, далекая от жизни, имеет свои реальные связи с ней, довольно тесные. Нет ничего проще рассудочной схемы передовых идей и, кажется, все, что нельзя уложить в эти рамки, должно быть осуждено, отброшено до конца. Но такая простота хуже воровства. Действительное содержание передового мировоззрения проверяется тем, насколько оно способно проникнуть в обычную жизнь людей во всем разнообразии ее сторон, не превращаясь в казенную фикцию благоденствия, которая по прошествии времени может вызвать обратную волну стихийного, бессмысленного протеста. Действительно передовыми идеи бывают в своем адекватном развитии, выражая не только общее движение вперед, но и равенство своим обещаниям, пусть в более ограниченном масштабе. Все подлинно новое не оставляет старому возможность цепляться за внешний характер этой новизны, не отделяется от исторической почвы, не исключает в своем порыве всякий «законченный образ, форму, заранее установленное ограничение». Напротив, полнота развития вглубь, закрепляющая каждую ступень, достигнутую движением от низшего к высшему, имеет серьезное значение даже в самой реальной политике. «Лучше меньше, да лучше!»
Заражаясь от своего врага нечистым духом угрюм-бурчеевской прямоты, все новое легко становится старым. Так, на вершине якобинской диктатуры с неожиданной силой проявился бюрократизм государственного аппарата, и сам Сен-Жюст шедший во главе этого принудительного похода в рай, оплакивал новую казенщину в своих речах. Кемаль запретил феску — символ магометанской старины, азиатской замкнутости. Конечно, это было прогрессивно, однако турки долго страдали и, может быть, до сих пор страдают от недоверия масс к прогрессивным движениям. Нет ничего более выгодного для настоящей реакции, чем отвлеченность прогресса, захватывающего только верхний слой жизни и оскорбляющего народную традицию, религию, старину. Массы могут заблуждаться, но в их предрассудках есть свой смысл — отмена фески не кормит, как не могла накормить революционную Францию отмена христианства. Да и сыт человек бывает не хлебом единым.
Во всех этих случаях вопросы жгучей политической остроты ведут нас к той же солнечной системе истины. Она имеет свой объективный автоматизм, осторожнее с ней! Мы слишком часто убеждаемся в том, что ее нельзя подкупить ничем, даже историческим правом передового и нового.
Теоретическое мышление — наиболее общая, или всеобщая, форма сознания. Все доступно ему, и в принципе все может быть переведено на язык человеческой головы прямо или косвенно (если сам предмет мышления еще не приобрел достаточного уровня определенности, то есть не является в собственном смысле предметом). Естественно, что мышление можно рассматривать как более высокую ступень духовного развития, чем непосредственное чувство. Однако многие факты противоречат такому выводу. Что же из этого следует? Вместо того, чтобы стремиться к свержению мысли с принадлежащего ей трона, не лучше ли поставить этот вопрос более конкретно, диалектически?
Преимущество мышления относительно. Духовно-практическая область нашего существа имеет свои права, она ближе к жизни. Непосредственное чувство часто постигает объективную истину лучше сухого ума. Вспомним «невежество» Сократа и позднее открытие отца Сергия. Это, впрочем, так и в пределах самого мышления. Можно знать наизусть все фигуры силлогизма, не умея думать самостоятельно, подобно тому, как можно изучить физиологию желудка и страдать плохим пищеварением.
Мы уже знаем, что истина не сводится к формальному совпадению мысли с ее объектом. Для нее важно прежде всего совпадение объекта с самим собой, например, нормальный желудок — без этой реальности не будет и науки, физиологии. Если так, то некоторые чувственные формы освоения мира могут быть ближе к общему корню реальной действительности, чем сухофрукты нашего мозга. Гегель сравнивал искусство с речью бывалого человека, который знает меньше, чем школьный учитель, но знает все практически и может представить нашему воображению такие картины жизни, что они сами по себе будят мысль и обогащают ее не хуже любой
науки. Все это, разумеется, нисколько не колеблет того факта, что теоретическое мышление является наиболее общей формой сознания.
Как смотрели на роль художественного чувства «гносеологисты» тридцатых годов? Было ли у них злокозненное намерение подчинить его сухой материи отвлеченного мышления? Возьмем пример из книги Ильина. Статья о художественном чувстве посвящена как раз интересующему нас вопросу. Есть разница между истиной в созерцании художника, неисчерпаемой, как реальный мир вокруг нас, и конечной суммой рассудочных идей, лежащей на дне его произведения, согласно обычной иллюзии. Наш домашний здравый смысл во всех его ипостасях, в том числе и самых модных, исходит из того, что самое главное добраться до этого дна, отгадать истинные намерения художника, усвоить его программу, зашифрованную посредством условного кода, — и действие искусства совершилось! Так же совершилось действие науки об искусстве, если мы узнали общественные цели художника, ведомые ему или бессознательные, а также секреты его художественной воли, преобразующей материал внешней действительности на свой лад.