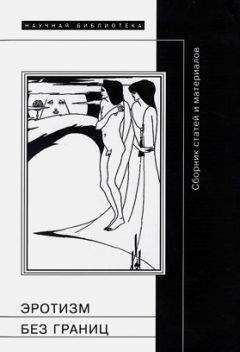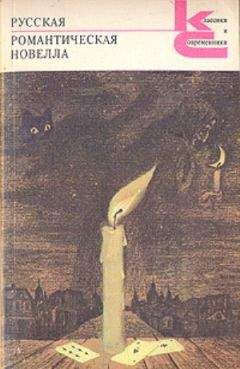В Дневнике (6 июня 1906 г.) Кузмин описывает «огромный» спор об Уайльде: «В<ячеслав> И<ванов> ставит этого сноба, лицемера, плохого писателя и малодушнейшего человека, запачкавшего то, за что был судим, рядом с Христом — это прямо ужасно»[109]. Через неделю спор повторился при сходных обстоятельствах, о чем Кузмин сделал короткую пометку в своем Дневнике: «Говорили о Уайльде. Сомов тоже ему не верит»[110]. (После этого разговора Кузмин впервые читал на «Башне» фрагменты из своего Дневника, насыщенного деталями его любовного быта: «Это было очень важно для меня и, почему-то, думаю и для Ивановых»[111].)
Возмутившее Кузмина заявление Иванова принадлежит к самой сердцевине символистского дискурса об Уайльде, и Иванов позже в чуть измененном виде повторит его печатно. Однако страстность и весомость данного спора об Уайльде связана с жизнетворческим контекстом, на фоне которого он возник.
«Друзья Гафиза» впервые собрались в квартире Ивановых в мае 1906 г. и сходились до ноября. Общество включало в себя несколько близких друзей Иванова, бывших гомосексуалами (М. Кузмина, К. Сомова, В. Нувеля), и несколько талантливых и привлекательных молодых людей — философа Н. Бердяева, поэта С. Городецкого и прозаика С. Ауслендера. За исключением Зиновьевой-Аннибал, группа состояла из мужчин. Расположение квартиры — неподалеку от Таврического сада (или «Тавриды», как ее тогда называли) делало собрания еще более заманчивыми для кузминской «банды». Таврида была главным в Питере местом гомосексуальных знакомств, и Кузмин, Нувель и Сомов (а также их друзья Бакст и Дягилев) имели привычку подолгу там фланировать (потом у Ивановых они с удовольствием описывали свои «эскапады»).
На встречах гафизитов участники предавались «дионисийству»: пили вино, наряжались, играли на флейтах, флиртовали, целовались, читали свои дневниковые записи и стихи. Если сам Иванов к мистической — дионисийской — стороне этих встреч относился серьезно, то Кузмин и его друзья главным образом получали удовольствие от эстетической и эротической атмосферы «Гафиза». Бердяев же в итоге счел эту обстановку для себя неприемлемой и отдалился от кружка. В своем письме к Иванову от 22 июня 1908 г. он выражает неодобрение распавшегося уже «Гафиза»:
«Я никогда не разделял ваших мистических надежд, лично Ваших надежд (у других их, по-видимому, не было) на такого рода формы общения <…> некоторые обнаружившиеся тенденции этого общения были мне неприятны. Тогда я отошел, да и скоро все само распалось»[112].
Тема Эроса доминировала в разговорах гафизитов. В этих беседах Иванов сформулировал свои собственные взгляды на гомосексуальность, зафиксированные в его дневнике:
«<Кузмин> в своем роде пионер грядущего века, когда с ростом гомосексуальности не будет более безобразить и расшатывать человечество современная эстетика и этика полов, понимаемых как „мущины для женщин“ и „женщины для мущин“, с пошлыми appas женщин и эстетическим нигилизмом мужской брутальности, — эта эстетика дикарей и биологическая этика, ослепляющие каждого из „нормальных“ людей на целую половину человечества и отсекающие целую половину его индивидуальности в пользу продолжения рода. Гомосексуальность неразрывно связана с гуманизмом; но как одностороннее начало, исключающее гетеросексуальность, — оно же противоречит гуманизму, обращаясь по отношению к нему в petitio principii»[113].
Осмысление гомосексуальности имело для Иванова не только теоретическое значение. Тем же самым летом у него завязался роман с юным поэтом Сергеем Городецким. Иванов концептуализировал отношения с Городецким как мистические и дионисийские и полагал, что они откроют для него и его возлюбленного путь к сверхчеловеческому. По его плану, любовь к Городецкому должна была быть «трагической» в ницшеанском смысле — явиться источником просветляющего страдания[114].
Кузмин же в 1906 г. начал приобретать известность в самых изысканных и эстетически передовых литературно-артистических кругах Санкт-Петербурга. Роман «Крылья» — кузминская апология однополой любви — будет опубликован в специальном выпуске «Весов» только в ноябре этого года, однако избранная литературная публика была уже знакома с рукописью. Судя по Дневнику Кузмина, его растущая репутация как «русского Уайльда» была ему не по душе. (Со своей стороны, В. Иванов позже специально укажет на ошибочность этой репутации и, перефразируя стих из «Онегина», опровергнет ходячее мнение, что Кузмин есть «петербуржец в Уайльдовом плаще»[115].) Нельзя сказать, чтобы Кузмин как-то особенно не любил литературное творчество Уайльда. Как заметил М. Ратгауз, «в другие, более стабильные, периоды своей жизни Кузмин спокойнее относился к Уайльду»[116]. Но русский культурный миф об Уайльде предписывал гомосексуалу стремление к ницшеанскому бунту и мистическому страданию — что Кузмину было глубоко чуждо.
Н. А. Богомолов показал тесную связь между решениями, которые Кузмин принимал в своей творческой и личной жизни[117]. Еще одна запись в Дневнике проливает свет на неприятие Кузминым уайльдовского мифа и в то же время иллюстрирует воздействие этого мифа на осмысление Кузминым и людьми его круга социальных последствий своей сексуальности. В сентябре 1906 г. Кузмин описывает сцену, в ходе которой он впервые испытал сексуальную близость с двумя мужчинами одновременно. Этими двумя были юноша по имени Павлик Маслов — любовник Кузмина и художник Константин Сомов — близкий друг поэта. Детально описав случившееся, Кузмин замечает:
«Вот непредвиденный случай. Я спрашивал у К<онстантина> А<ндреевича>:„Неужели наша жизнь не останется для потомства?“ — „Если эти ужасные дневники сохранятся — конечно, останется; в следующую эпоху мы будем рассматриваемы как маркизы де Сад“. Сегодня я понял важность нашего искусства и нашей жизни»[118].
Предполагая, что потомки увидят в нем и Кузмине подобия маркиза де Сада, Сомов вольно или невольно цитирует первые строки русского перевода «De Profundis» Уайльда: «Меня хотят поставить наряду с Жиль де-Ретцом и маркизом де Садом. Пусть будет так. Я не буду на это жаловаться»[119].
Фигура каторжанина Уайльда с маячащей за ней тенью одиозного маркиза де Сада символизировала для Сомова пропасть, отделяющую его и Кузмина сексуальные нравы от социально санкционированных. Уайльд пал жертвой такого же конфликта, пал позорно — «запачкав то, за что был судим». Крушение Уайльда передвинуло предмет его преступления с периферии культуры в ее центр, тем самым проложив дорогу к литературной тематике Кузмина, в которой гомосексуальность играла важную роль. Отказываясь верить «De Profundis», Кузмин и Сомов не могут тем не менее избежать влияния этого текста и связанной с ним мифологии. Отвергая мифологизированный образ Уайльда, Кузмин самим своим раздражением выдавал понимание чрезвычайной актуальности для него этого образа.
Эротический идеал, нарисованный Кузминым в «Крыльях», представлен в мире его романа гомосексуальными знатоками античности. Гармоническое и безмятежное древнегреческое наследие имеет в «Крыльях» выраженно предницшеанский характер. В эпоху «Имморалиста» и «Смерти в Венеции» такой эротический идеал был старомоден. В отличие от ивановского понимания гомосексуальности как обреченной на страдание сверхчеловеческой страсти, Кузмин, судя по Дневнику, настойчиво выстраивал себе уютное и психологически удобное гомосексуальное пространство в повседневной жизни и культуре. Страдательная и странным образом героическая маска Оскара Уайльда Кузмину совсем не подходила; не имея возможности избежать воздействия современного ему модернистского дискурса о гомосексуальности, Кузмин мог отвергнуть — и отверг — предписываемые ему этим дискурсом функции трагического бунта, мученичества и святости.
* * *
Поразительную жизненность мифологии Уайльда в России можно приписать ее превосходной адаптируемости к дискурсивным ресурсам русской культуры. Особенно важна здесь центральная для русского романа XIX в. модель героя, «миссия которого — в переделке собственной сути». По заключению Ю. М. Лотмана, «сюжет этот отчетливо воспроизводит мифы о грешнике, дошедшем до апогея преступлений и сделавшемся после морального кризиса святым <…> и о смерти героя, схождении его в ад и новом возрождении»[120]. Этот житийный и мифологический нарратив не только наложил отпечаток на репутацию Уайльда в России, но и оказал воздействие на модернистское понимание сексуальности.
Усвоение истории Уайльда в России показывает, что литературный дискурс, являясь форумом для обсуждения сексуальности, воздействует на формовку сексуальных идентичностей. Дискурсивные механизмы этой формовки в культуре русского символизма представляются более прозрачными, нежели в других случаях, — из-за того что символисты сделали жизнетворчество принципиально важным элементом своего искусства[121]. История Уайльда, залетевшая в Россию в ходе мелкой политической интриги, разрослась здесь в мифологический нарратив, через который гомосексуальность — общая тема европейского модерна — получила свою русскую интерпретацию. В России символическое значение имени «Оскар Уайльд» сохранилось, но как символ оно оказалось здесь нагружено специфически русскими культурными смыслами[122].