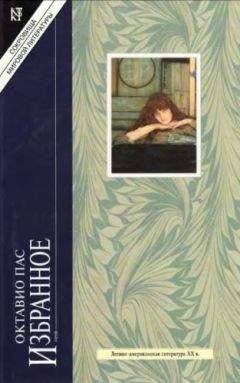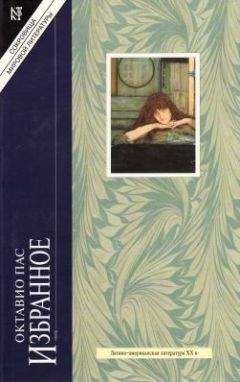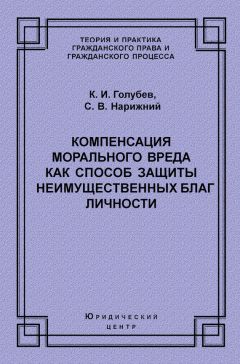Чтобы быть, человек должен умилостивить божество, то есть завладеть им: через посвящение человек получает доступ к священному, к полноте бытия. Таков смысл любого священнодействия, особенно причастия. И такова же конечная цель жертвоприношения — умилостивления, завершающегося посвящением. Но жертвовать другими — это еще не все. Человек недостоин приближаться к священному из-за своей первозданной ущербности. Спасение, Бог, своей жертвой возвращающий нам возможность быть, и очищающая жертва искупления как раз и рождается из этого чувства изначальной несостоятельности. Ведь религия утверждает, что вина и смертность — понятия равнозначные. Мы виновны, потому что мы смертны. Итак, вина нуждается в искуплении, смерть — в вечности. Вина и искупление, смерть и вечная жизнь образуют пары, которые дополняют друг друга, особенно это характерно для различных форм христианства. Восточные же религии, по крайней мере наиболее развитые, не обещают нам спасения со всеми потрохами (вопрос, так живо волновавший Унамуно; впрочем, беспокойство по этой части вообще было его болезненной особенностью).
Строго говоря, у нас нет оснований полагать, что «ущербность», «недостаточность» и первородный грех — это одно и то же. Анализ «ущербного бытия ничего не говорит ни за, ни против греха».[12] Католическая доктрина в этом смысле отличается от протестантской. Для св. Августина человеческая природа и вообще естественный мир сами по себе не так уж плохи, человеческая ущербность, по Августину, не тождественна вине. Перед Богом, существом совершенным, все существа, включая людей и ангелов, страдают недостатками. Их недостаток состоит в том, что они не Бог, что они не самодостаточны. Но эта несамодостаточность выступает и у людей, и у ангелов как свобода: ведь возможность движения, восхождения к бытию или падения в ничто неизбежно предполагает свободу. С одной стороны, несамодостаточность рождает свободу, с другой, сама свобода — это возможность справиться с изначальной ущербностью и несамодостаточностью. Человек — это всегда открытая возможность падения или спасения. Именно так и воспринимает человека св. Августин. Известно, что эту идею с блеском воплотила испанская драматургия, указанная точка зрения представляется мне ценной не только для католиков. Первородный грех — это не ущербность бытия, а какой-то определенный проступок, он состоит в том, что человек сосредоточился на самом себе и отвернулся от Бога. Но мы живем в падшем мире, где человек сам по себе ничего не выбирает. Благодать — даже если она проявляется как «милость наказания», о чем писала в своем знаменитом письме сор Хуана — необходима для спасения. Стало быть, человеческая свобода подчинена благодати. Человеческая недостаточность — это действительно малость, скудость, нехватка, но это не значит, что благодать подменяет свободу, она ее восстанавливает: «Благодать — это не наша свободная воля плюс сила благодати, но наша свободная воля, посредством благодати обретающая силу и свободу».[13] Католическая мысль богаче, свободнее и последовательнее протестантской, но и она, на мой взгляд, не вполне отказывается от приравнивания ущербности человеческого бытия греху. Как это свобода до грехопадения могла выбрать зло? И что это за свобода, сама себя отрицающая и выбирающая не бытие, а ничто?
Сталкивая недостаточность человеческого бытия с полнотой бытия божественного, религия апеллирует к вечной жизни. Она избавляет нас от смерти, превращая земную жизнь в нескончаемые мучения во имя искупления изначальной недостачи. Убив смерть, религия обезжизнивает жизнь. Вечность мгновенно становится необитаемой. Потому что жизнь и смерть неразделимы. Смерть всегда в жизни — мы живем, умирая. Мы проживаем каждый миг умирания. Избавив нас от смерти, религия избавляет нас от жизни. Религия жертвует этой жизнью во имя вечной жизни.
И поэзия, и религия исходят из основной человеческой ситуации, ситуации «бытия-здесь», сопровождающейся ощущением заброшенности, ведь это «здесь» предстает как враждебный и безразличный мир, и та и другая исходят из временности конечности «бытия-здесь». Поэт, тоже на свой лад отрицая мир, достигает пределов, границ языка. Эти границы именуются безмолвием, белым листом бумаги. У безмолвия, как у озера, гладкая и ровная поверхность. Но там, в глубине, наготове слова. И туда, на дно, дóлжно сойти, затаиться и выждать. Апатия предшествует вдохновению, как пустота полноте. Поэтическое слово прорастает после засухи. О чем бы оно ни говорило, каков бы ни был его конкретный смысл, оно всегда утверждает жизнь этой жизни. Я хочу сказать, что поэтическое деяние, слова поэта, независимо от частного содержания самих этих слов, есть такое деяние, которое, по крайней мере в своих истоках, не истолкование, но открытие нашего удела. О чем бы ни говорилось — об Ахиллесе или о розе, о смерти или о рождении, о солнечном луче или волне, о грехе или невинности, поэтическое слово — это ритм, пробивающийся, как родник, как непрестанно возрождающаяся временность. И всегда ритм — это объемлющий противоположности образ, жизнь и смерть в едином слове. Как само существование, как жизнь, которая всегда содержит в миге восторга образ смерти, так излучающее время поэтическое слово разом утверждает и жизнь, и смерть.
Поэзия — не суждение о человеческой жизни и не истолкование этой жизни. Струящийся поток образов и ритмов просто выражает то, что мы есть, выявляет наш удел, каким бы ни был непосредственный конкретный смысл стихотворных строк. Не боясь повториться, стоит еще раз напомнить о том, что одно дело значение слов поэтического произведения и другое — смысл поэзии. Я говорю о смысле поэтического акта, о творении поэзии поэтом и пересотворении ее читателем, а не о том, что нам говорит то или иное стихотворение. Но почему поэтический акт не может быть суждением о нашей исконной ущербности, если мы как раз и сошлись на том, что поэзия открывает наш сущностный удел? Удел принципиально ущербный, поскольку он конечный и несамодостаточный. Мы изумляемся миру, встающему к нам чужим и нерадушным. Но ведь мир равнодушен именно потому, что у него, как такового, и нет иного смысла, нежели тот, которым наделяет его наша возможность бытия, возможность смерти. Ведь «едва человек вступает в жизнь, он уже достаточно стар, чтобы умереть».[14] От мига рождения жизнь — непрерывное пребывание в чужом и негостеприимном, какая-то исконная немочь. Нам не по себе, потому что мы стремим себя в ничто, в небытие. Наша недостаточность — исходная недостаточность, рождающаяся вместе с нами, составляющая наш собственный способ бытия, наш исконный удел, ибо нам искони свойственна нехватка бытия. И похоже, здесь Хайдеггер совпадает с Отто: «Быть всего лишь тварями, по сути, то же самое, что свести бытие к всегда открытой возможности не быть, то есть к смерти». Конечно, о Боге здесь речи нет, и недостаточность остается невосполненной, а вина неискупленной. Правы Кальдерон{49} и буддисты: рождение несет в себе смерть, и самое большое преступление — родиться. Анализ Хайдеггера, на который мы опирались, чтобы выявить смысл религиозного опыта, кажется, оборачивается против нас. Если поэзия действительно выявляет наш исконный удел, она свидетельствует не что иное, как ущербность.
При этом никак нельзя упускать из виду, что в «Бытии и времени» и еще отчетливее в других работах, особенно в «Что такое метафизика?», сам Хайдеггер старается доказать, что пресловутая тяга «не быть», пресловутая негативность как предельное воплощение нашего бытия, по сути, никакой не изъян. О человеке не скажешь, что он неполон или что ему чего-то не хватает. Ведь мы уже видели, что это «что-то», которого он вроде бы лишен, и есть смерть. Смерть не вне человека, она не приходит извне как нечто стороннее. Если считать смерть чем-то не являющимся частью нас самих, то придется согласиться со стоиками, считавшими, что, пока мы живы, смерти нет, а как приходит смерть, нас нет. Так спрашивается, что же ее бояться и зачем о ней столько думать? Дело, однако, в том, что смерть от нас неотделима. Она не вне нас, она — это мы. Жить значит умирать. И именно потому, что смерть не есть нечто внешнее по отношению к нам, именно потому, что она внутри нашей жизни, настолько внутри, что всякое жить есть в то же время умирать, у нее положительный смысл. Смерть не ущерб, который почему-то наносится человеческой жизни, напротив, она сообщает ей целостность. Жить — это идти вперед навстречу незнакомому и, значит, двигаться навстречу себе. Вот поэтому жить означает смотреть в лицо смерти. Ничто так не утверждает в себе, как смотрение в лицо смерти, непрестанное выхождение за свои собственные пределы навстречу чуждому. Смерть — это распахивающееся нам навстречу пустое открытое пространство. Жить значит быть заброшенным в смерть, но смерть дается жизнью и сбывается только в жизни. Если рождение предполагает смерть, то смерть таит рождение. Говорят, нас всюду подстерегает смерть, но разве нельзя сказать, что нас всюду подстерегает жизнь?