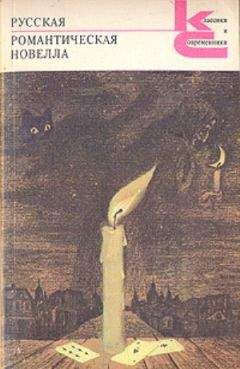Эта черта детского сознания есть момент закладывания специфически человеческого. У ряда личностей он проявляется особенно ярко. Так, Владимир Соловьев в детском возрасте имел собственные имена для каждого из своих карандашей. С этим же связано стремление табуировать для «чужих» употребление своего «детского» имени. Первоначально за этим стоит психология защиты тайн «своего» мира. В дальнейшем подросток может стыдиться своей недавней принадлежности к детству и этим мотивировать табу на свой ранний язык. Мотивы могут меняться, но табу остается.
Стремление ребенка расширять сферу собственных имен, вводя туда весь круг существительных, относящихся к его «домашнему» миру, неоднократно отмечалось, и в нем видели проявление особой конкретности детского сознания. Однако активна и противоположная тенденция: перебегая в парке от дерева к дереву, трехлетний ребенок с возбуждением и восторгом ударяет по березам, елкам, тополям и восклицает: «Дерево!» Потом он с тем же криком ударяет по электрическому столбу и заливается смехом: это была острота — он не считает столб деревом. Перед нами не только способность обобщить, но и возможность играть этой способностью, что связано с процессами, присущими только человеческому сознанию.
Отделение слова от вещи — вот та грань, которая создает пропасть между человеком и остальным животным миром, и ребенок — пограничный страж на краю этой пропасти, может быть, ярче, чем «взрослые», обнаруживает черты того сознания, неофитом которого он является.
Руссо в «Рассуждении о происхождении неравенства» гениально высказался относительно психологии различения вещей и явлений: «Надо полагать, что первые слова, которыми люди пользовались, имели в их уме значение гораздо более широкое, чем слова, которые употребляют в языках уже сложившихся; и что, не ведая разделения речи на составные ее части, они придавали каждому слову сначала смысл целого предложения. <…>
Каждый предмет получил сначала свое особое название, вне зависимости от родов и видов, которые эти первые учители не были в состоянии различать, и все индивидуумы представлялись их уму обособленными, какими и являются они на картине природы. Если один дуб назывался А, то другой дуб назывался Б, ибо первое наше представление, которое возникает при виде двух предметов, — это то, что они не одно и то же, и часто нужно немало времени, чтобы подметить, что у них есть общего; так что чем более ограниченными были знания, тем обширнее становился словарь. Затруднения, связанные со всею этою номенклатурою, нельзя было легко устранить, ибо, чтобы расположить живые существа согласно общим и родовым обозначениям, нужно
было знать свойства и различия, нужны были наблюдения и определения, то есть требовались естественная история и метафизика…»1
Далее Руссо, с присущей ему смелостью, утверждает, что обезьяна, «переходящая от одного ореха к другому», не воспринимает эти предметы как нечто единое (такая обезьяна, вопреки мнению философа, конечно, умерла бы с голоду). Именно у черты, отделяющей обезьяну от ребенка, — истоки специфики человека. Здесь начинается игра между собственными именами и нарицательными, между «этот» и «всякий». И именно потому, что понятие «этот и только он» — понятие новое, оно в первую очередь привлекает внимание неофита. Нет «я» без «другие». Но только в сознании человека «я» и «все другие, кроме меня», складываются в нечто единое и конфликтное одновременно.
Один из исходных семиотических механизмов, присущих человеку, начинается с возможности быть «только собой», вещью (собственным именем) и одновременно выступать в качестве «представителя» группы, одного из многих (нарицательное имя). Эта возможность выступать в роли другого, заменять кого-то или что-то, означает «быть не тем, что ты есть».
Так, например, когда в драке между самцами павианов побежденный становится в позу сексуального подчинения, мы сталкиваемся с весьма интересным примером исходной точки семиозиса. Вопреки возможным фрейдистским истолкованиям, перед нами не случай торжества сексуальных устремлений, а яркое проявление возможности освобождения от их власти в их же собственном царстве, превращения их в язык, то есть в нечто формальное, отделенное от собственного значения. Самец-павиан использует сексуальный жест самки как знак несексуальных отношений — свидетельство готовности быть подчиненным. Естественные, данные природой и заложенные генетически биологические позы повторяются как знаки, которым возможно приписывать произвольное значение.
М. Булгаков описывает в «Театральном романе» следующий случай, вызванный императивным запретом режиссера на изображение кровавых сцен. В результате действие, в котором автор изобразил ссору героев и гибель одного из них, подверглось трансформации: «…а на генеральной выстрелил в кулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалось дурно — она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а Людмила Сильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. В пьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал „убью тебя, негодяя!" и топал ногами, отчего, по мнению Ивана Васильевича, пьеса только выиграла»2.
Комический смысл эпизода — в сопоставлении авторского текста и редакционной переработки этого текста цензурой Ивана Васильевича. Это позволяет рассматривать данные тексты как антонимические, с точки зрения автора, и как улучшенные синонимы — по мнению режиссера. Возможность для двух текстов одновременно выступать друг по отношению к другу в качестве синонимов и в качестве антонимов подводит нас к новому вопросу.
1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Подгот. В. С. Алексеев-Попов, Ю. М. Лотман, Н. А. Полторацкий, А. Д. Хаютин. М., 1969. С. 60–61.
2 Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 4. С. 515.
Подобная смысловая игра не обязательно связывается с художественной функцией — область ее более широка1. Это один из механизмов смыслопорождения. Особенность его, в частности, в том, что сама природа смысла определяется только из контекста, то есть в результате обращения к более широкому, вне его лежащему пространству.
«Отколе, умная, бредешь ты, голова?»2 —
только знание того, что слова эти обращены к ослу (а знание это требует значительно более широкого контекста), позволяет определить, что мы имеем дело с иронией. Так что здесь, в сущности, приходится говорить не о структуре текста, а о его функции. Фактически ирония подразумевает личное знание адресата. Насмешка всегда, прямо или замаскированно, имеет в виду конкретную единичность, то есть связана с собственным именем. Еще более усложняется проблема, когда мы вступаем в область художественных текстов.
Художественный текст в принципе исходит из возможности усложнения отношений между первым и третьим лицом, то есть между тяготением к пространству собственных имен и объективным повествованием от третьего лица. В этом отношении сама возможность художественного текста подсказывается нам психологическим опытом сновидений. Именно здесь человек получает опыт «мерцания» между первым и третьим лицом, реальной и условной сферами деятельности. Таким образом, во сне грамматические способности языка обретают «как бы реальность». Область зримого, прежде простодушно отождествляемая с реальностью, оказывается пространством, в котором возможны все допустимые языком трансформации: условное и нереальное повествование, набор действий в пространстве и времени, смена точки зрения. Одна из особенностей сна состоит в том, что категории говорения переносятся в пространство зрения. Без этого опыта невозможны были бы такие сферы, как искусство и религия, то есть вершинные проявления сознания.
Перенесение сферы сновидений в часть сознания влечет за собой коренные изменения самой его природы. Только эти изменения дают возможность перекинуть мост от сна к художественной деятельности. Опыт, извлеченный из сновидений, подвергается той же трансформации, которую мы совершаем, когда рассказываем сны. Гениальная гипотеза П. Флоренского, согласно которой в момент пересказа сна происходит обмен местами начала, конца и направления сновидения, до сих пор не была проверена экспериментально, и поэтому мы на ней далее останавливаться не будем. Для нас более существенно, что при словесном пересказе сновидения происходит очевидное увеличение степени организации: структура повествования накладывается на нашу речь.
Итак, превращение зримого в рассказываемое неизбежно увеличивает степень организованности. Так создается текст. Процесс рассказывания вы-
1 Об иронии как тропе см.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Л., 1925 С. 39.