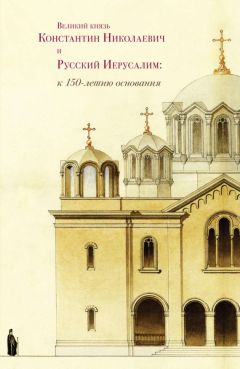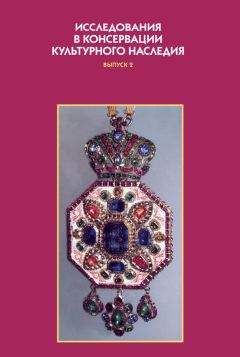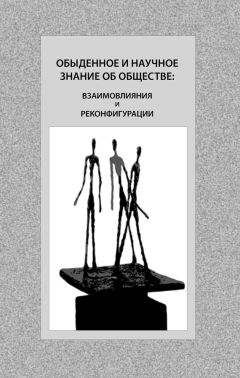Автором повести описан духовный путь, который выходит за рамки беллетристики. Это уже не только исповедь отдельно взятого человека или поколения, но и проповедь, причем проповедь тихая, выстраданная. Диалоги Ольги Кореневой с Романом Андреевичем Коршем перекликаются с самыми топкими местами поэмы о Великом инквизиторе из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Эти разговоры Ольги с Коршем, который плетет свою паутину в тени князя мира сего, обладают художественным достоинством сами по себе. Однако как же мощно они углубляют русло традиции, в которой работал Достоевский и восприемником которой он являлся. Корш за творением не может и не хочет разглядеть Творца. Удивительно, что и Ольгина подруга Белла, смиренно несущая свой крест, улавливает в большей степени то, что находится в горизонте творения. Белле, как и Коршу, тяжело дышать на высоте, где Бог соприкасается с душой, хотя, казалось бы, между Коршем и Беллой пролегает пропасть. Ученики любили Христа, но еще не знали, что придется полюбить Истину, которая через Христа явилась в мир. Очень тяжело оторвать глаза от земли даже тем людям, которые, сами того не ведая, уже идут по облакам. Вторая или высшая ипостась лирического «я», а именно поэт и художник Эфраим Аданов, потребовалась Миркиной для того, чтобы всмотреться в лицо Последней глубины, Которое не может быть лицом нашим, отражающимся в зеркале. Вот почему озеро отражает лишь невидимую красоту человека. Вот почему Ольга слегка улыбнулась зеркалу и вся улыбнулась распахнутому окну. Катя, самое близкое Ольге Алексеевне существо, внезапно отдаляется от матери. Как, почему это происходит? Ребенок хочет понравиться миру. Родители любят свое чадо и так. Духовный путь подобен озарению. Научить озарению, привить озарение невозможно. Вот почему родители, даже лучшие из них, так часто проносят мимо своих детей Божьи дары. Финал повести и ожидаем, и непредсказуем. Тот, кто научился разговаривать со своей глубиной, уже не может быть одинок. Но для того чтобы услышать глубину, нужно пожертвовать своей поверхностной общностью с людьми, особенно с близкими людьми. А близкие, в силу причин совершенно естественных, не всегда способны принять это и понять…
Как отражается эпоха в поэзии Миркиной, значит ли что-либо для нее категория исторического времени? Или она смотрит сквозь время, не замечая его примет? Замечает, но не позволяет своему внутреннему простору заговорить на языке злободневности. Пушкину пришлось прибегнуть к уловке, чтобы его не обвинили в гедонизме. Поэтому он приписал свое заветное желание «дивиться божественным природы красотам», «трепетать» и «умиляться» веронцу Пиндемонти. Но в трепете и умилении Миркиной нет гедонизма. Не удовольствие, пусть даже и эстетическое, является высшим благом и целью ее жизни, а служение. Возведение незримого собора – нелегкий труд. Храм строится не только веком и миром, но и песней безымянной пичуги.
Я небу ступаю навстречу,
Здороваюсь с влажным кустом.
Мне надо вдохнуть бесконечность,
А всё остальное – потом.
К чему ни звала бы эпоха,
Зов вечности в сердце не стих —
Важнее глубокого вдоха
Не знаю я дел никаких.
Что самое главное в мистическом опыте Миркиной, донесенном до нас через поэтическое слово? В нем все пропущено через сердце, которое зорко всматривается в мир божий и видит его глазом художника. В нем судьба и творчество, дела и слова не входят в противоречие, исподтишка предавая друг друга. В ее опыте нет фантазирования, которое льет воду на мельницу превратно толкуемой мистики с ее буквальным пониманием рая и ада, с ее буквальным пониманием бессмертия плоти, т. е. пониманием не творчески-духовным, а механически-физическим.
Воскрешение тела – тайна непостигаемая, и любое безответственное фантазирование столь огрубляет эту тайну, что она превращается в разменную монету, в аргумент в споре, а не в опыт глубочайшего замолкания ума. Антоний Сурожский пишет: «Невозможно говорить, что в день последнего Воскресения наши тела восстанут такими, какие они сегодня, а не какими они были вчера или будут через три недели. Речь идет о том, что наша телесность будет воскрешена, а в каком виде и как – мы не имеем никакого понятия и никаких указаний в этом отношении. Поэтому речь идет не о том, чтобы сохранить в целости тело данного человека, какой он есть сегодня. Речь о том, чтобы дать возможность этому телу продолжать жить и действовать и принимать творческое участие во всей целокупности жизни этого человека: его умственной жизни, жизни его сердца, любви»[543]. Здесь было бы уместно вспомнить чаадаевскую формулу жизни в Духе: «Христианское бессмертие есть жизнь без смерти, а совсем не то, что обыкновенно воображают: жизнь после смерти»[544]. Жизнь без смерти – это и есть наше творческое участие во всей целокупности жизни, в том числе и умственной жизни. Но умственная жизнь лишь тогда умножает силу, которой берется Царствие Небесное, когда уступает первое место жизни сердца. Потому что только сердцу по силам все уступить Богу. «О, как вы жаждете, как ждёте / Бессмертья, воскрешенья плоти! / А Бог нам отдал плоть свою», – напишет она. Но здесь мне бы хотелось привести другое ее стихотворение, посвященное теме посмертного воздаяния.
А если ты растаешь струйкой дыма?
А если жизни подведен итог
И стерто всё, что мыслью представимо.
А Бог? Кто Он – непредставимый Бог?
Так смысл пропал? – Ни на одно мгновенье:
Непредставимой этой глубине
Души моей вернейшее движенье
Необходимо так, как воздух мне.
И, может, нет ни рая и ни ада.
Простор небес непредставимо тих.
И нет ни наказанья, ни награды,
Но только сердцу и не надо их,
Полученных за что-то, от кого-то. —
Душа под небом, как бокал пустой,
И пустота от всей земной заботы
Окажется небесной полнотой.
Умом не представимая, иная
Мысль приказала некогда: живи!
Я ничего своим умом не знаю,
Но полнота, но океан любви!..
4
Сколько же ей потребовалось сил и мужества, чтобы перенести уход из жизни горячо любимого супруга. В стихах, датированных апрелем – маем 2013 г., написанных «вослед ему», сквозь боль утраты просвечивает то смутно, то отчетливо радость встречи в Боге, которая уже состоялась здесь, на земле, и которая будет длиться вечно. Рассказывая о своем духовном пути, Григорий Померанц неизменно возвращался к одной и той же точке в судьбе. Будучи молодым человеком, он дал бой материальной, бездушной бесконечности, по сравнению с которой его личное существование сводилось к нулю. И он победил всепоглощающую бездну материи. «Если бесконечность есть, то меня нет. Если я есть, то бесконечности нет». Именно эти слова Померанца Миркина предпослала одному из стихотворений, написанных в память о нем. Так истинное, высшее «я» человека должно одолеть дурную бесконечность. Это был первый удар Померанца, нанесенный по тоталитарному сознанию, исповедующему беспросветный детерминизм. Григорий Соломонович прожил долгую, полную испытаний, прекрасную жизнь, большую часть которой его спутницей, музой и духовным камертоном была Зинаида Александровна. Стихи «вослед ему» – это и плач, и гимн. Плач по нему, не по себе. Гимн всему тому, что они так любили, что стало их общей судьбой на долгие годы.
Говорить о воскрешении из мертвых как о чуде следует с величайшей осторожностью. Вот с какой деликатностью размышляет о власти Создателя над законами мира Александр Мень: «…чудеса – во все времена – как правило, не посягают на свободу человека, не навязывают ему веры (вспомним, что воскресший Христос не явился Своим врагам). Подлинное чудо оставляет место для сомнений, для его приятия или отвержения»[545]. Почему воскресший Христос явился только Своим друзьям? Да потому что одних глаз, чтобы увидеть победу Христа над смертью, недостаточно. Тут необходимо зрение сердца. Глазами обладали и враги Христа, но они ничего не увидели. Полагать воскрешение из мертвых непреложным фактом физической реальности означает проявить непростительное невнимание к реальности незримой. А ведь именно она во всей полноте своих не ограниченных законами природы возможностей и противостоит смерти. Тайна воскресения – это тайна сердца сораспятого Тому, Кого оно беззаветно любит.
Ты глядел в глаза жестокой яви.
Ты не отводил от бездны глаз.
Что же ты сумел противоставить
Мраку, обступающему нас?
Этой полной слепоте и глуши,
Этой бездуховности в ответ
Ты свою противоставил Душу,
Из Ее глубин сверкнувший свет.
Яркий прочерк внутреннего света
Вспыхнул, тьму ночную разрубя. —
Выход есть! Безвыходности нету!
Жизнь без смерти есть внутри тебя.
Может прах вернуться снова к праху,
Но бесспорна огненная весть:
Больше нет в душе ни капли страха, —
Что б с тобой ни сделали, – АЗ ЕСМЬ!
Я люблю тебя с такою силой,
Что способна разорваться грудь.
Ты ушел. Дыханья не хватило.
Значит, надо за тобою – в путь.
Но не в те загробные пределы —
Есть дорога дольше и трудней —
Не вослед за погребённым телом —
За Душой любимою твоей.
Мне дано великое заданье:
Различить беззвучный зов Творца,
Леса говорящее молчанье,
Всей душой дослушав до конца.
Мне сказали капли дождевые
Вспышкою в скрестившемся огне:
Мёртвых нет. Но только мы, живые,
Живы лишь отчасти. Не вполне.
Это слово бессловесной хвои —
Весть из распахнувшихся небес:
Если я воистину живою
Быть сумею, значит, ты воскрес.
Если бы местоимение «ты» начиналось не со строчной буквы, а с заглавной, то у читателя были бы все основания считать, что речь в стихотворении идет о Христе. Миркина и пишет о Нем, и говорит с Ним, но так сроднить с Богом, как роднит потеря самого близкого человека, не способно ничто. И сколько же нужно душевных сил, чтобы это тайное родство снести, чтобы не отречься от него в горе? Чтобы вдруг не обнаружить, что миром и тобой правят банальные законы природы, против которых ты бессилен, и власть которых никто не отменял.