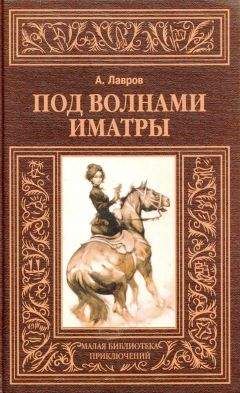Весь язык и все понятия этого гимна Природе чрезвычайно далеки от культуры XX века; получилось так, что почти все представления, выраженные в этом отрывке, а следовательно, и все основные представления и понятия поэзии Геснера были основательно переосмыслены — переработаны или даже «перемолоты» — уже на рубеже XVIII–XIX веков. Однако для своего десятилетия — это исповедание заветной веры и восторженная демонстрация ключевых слов, в которых узнает себя человек той эпохи; интересно убедиться в том, что это — тот самый язык, на каком выражает себя и Гёте в «Майской песне» (1771). Впрочем, совсем с иной стороны, и русский поэт, написавший: «Печаль моя светла», — причастен к уходящему языку этих основных представлений: в заключение своего гимна Природе швейцарский поэт заявляет наиболее далеко простирающееся свое намерение, а именно намерение и само свое умирание, и саму смерть переделать, претворить в светлую радость, в своего рода наслаждение, даже в некоторого рода пресыщенную сладость наслаждения, в «пышное роскошествование» наслаждения (что и подразумевает немецкое слово Wollust, даже чисто фонетически приспособившееся как-то к французскому volupté, от латинского voluptas). В свете этого становится понятно, отчего крылатые слова «Et in Arcadia ego!», произнесенные когда-то от лица Смерти, распространились затем, расширив свой смысл, на все воспоминания о золотом веке, насколько доступны они всякому (каждому «мне»): ведь все эти воспоминания, поэтически пробуждаемые в душе, замешаны на той сладости (наслаждении), которая вынуждена помнить о неизбежности смерти и в своем непрестанном само-рефлектировании вынуждена опускать сладостные покровы и на самую Смерть. В этом отношении представление о наслаждении как Wollust/volupte — это едва ли не самое главное и общее представление во всем гимническом отрывке, а притом и самое крайнее — в нем заложено чрезвычайно интенсивное мышление человека, человеческой личности: человек всем своим существом, душевным и телесным, приникает к природе и в таком приникании достигает экзальтированного восторга, который и объявляет нормой своего существования: человек и все чувственное, и все телесное вкладывает в это наслаждение — в этом допустимо видеть некий отдаленный, невинно разыгрываемый пролог к «экстатизму» европейской культуры конца XIX века (с заходами и в начало XX века, — «Поэма экстаза» А. Н. Скрябина, 1906). Однако пока всему такому телесному, перенапрягающемуся в своем наслаждении существу тут, можно сказать, вполне бесхитростно придается вполне невинный вид, а сугубой рефлективности наслаждения — оно только и делает, что обхаживает и всячески лелеет себя мыслью, — обличье первозданной красоты (Einfalt — «несложность, неразъятость») самого непосредственного единения с природой. Такая бесхитростность весьма благоразумно (и хитро!) прибегает к простым средствам своего выражения. Так, Геснеру не приходится ломать себе голову для обрисовывания какого-либо многообразия природы с ее оттенками, — совсем напротив, он может и обязан ограничиться называнием совсем немногого — это рощи, холмы, луга, деревья, ручьи; это хижины, стоящие среди природы, и пастухи, ее населяющие. Геснеру не надо, к примеру, называть породы деревьев и растений — кроме розы, символический смысл которой пришелся кстати в светло-печальном заключении отрывка. И столь же немногосложны характеристики отношений природы и человека: природа улыбается и смеется человеку, зато к испорченному «городскому» человеку обращена дьявольская улыбка Гарпии, и царит здесь покой (Still — 6 раз в отрывке), кротость (Sanft), светлая радостность (Heiter); затем, в сторону большей рефлексии, — сладость (Süss), восхищение (Entzückt), роскошь (Wollust). Все это тоже неоднократно повторяется и тоже не требует никакого разнообразия. Такое однообразие и способно репрезентировать простоту (£ï/ifalt), и, действительно, для такой поэтической мысли возможно скрыть весь разбег своей рефлексии в такой замысловато исполненной простоте. Такова возможность, какую предоставляет историческая минута, — скоропреходящая, однако многозначительная, а при этом отраженная во всей культуре сентиментализма. Разумеется, введенный в роман Геснера гимн Природе в своей восторженной простоте созвучен другим гимнам природе — тому, какой английский моралист Энтони Эщли
Шефтсбери ввел в свой диалог «Моралисты» (1709), — изнутри этого тёкста уже предвидимы все преломления чувства на всем протяжении XVIII века, вплоть до романтизма, — и тому, какой принадлежал перу молодого швейцарского богослова Георга Кристиана Тоб-лера (1757–1812) и, будучи вписан в веймарский рукописный «Тифурский журнал» (конец 1782 — начало 1783 года)[9], перешел затем в собрание сочинений Гёте: авторство забылось, а близость к миропониманию Гёте ранних веймарских лет была вполне очевидной; гимн этот, в отличие от геснеровского, полон научно-философских, интеллектуалистских мотивов; автор гимна, Г.К.Тоблер, «переводил гекзаметрами орфические гимны. Фрагмент “Тифуртс-кого журнала” — это переложение в прозу и расширение, с цитатами из Шефтсбери, его переводов», — так охарактеризовал этот гимн Э.Р.Курциус.
Таким образом, энтузиастические гимны Природе, писавшиеся в XVIII веке, входят в чрезвычайно долгую традицию, становясь едва ли не последним ее звеном; однако нельзя не отметить их исключительное своеобразие, — гимн Тоблера включается в цепь фило-софско-естественнонаучных исканий на значительном культурном рубеже, между тем как гимн Геснера с исключительной художественной интенсивностью передает само мироощущение «сентиментального человека» середины XVIII века, — таковой рефлектирует свое «чувствование», занят самостилизацией — в том смысле, в каком рефлексия укрепляет его в его мироощущении, — однако лишь в такой самостилизации и обретает сам себя во всей достижимой на таких путях полноте всех своих душевно-чувственных, душевно-те-лесных потенций. Такому человеку представляется, что он еще может ограничивать себя пределами покоя и кротости, укрывая в них свою неодолимую тягу к «наслаждению», а также все еще кажется, что подобное провозглашение внутреннего покоя убережет его даже и от любых опасностей, идущих извне: и такая позиция и, следовательно, весь геснеровский гимн природе — это нечто вроде попытки «заклясть» и раз и навсегда остановить свое же собственное существо, которое отныне, так сказать, не смеет делать даже и одного шагу дальше; можно сравнить такое магическое самозак-лятие и с молитвой, обращаемой не к кому-нибудь, а к самому себе, смысл которой тогда таков: «я», к какому обращаюсь с мольбою я, ну никак уж не должен в дальнейшем позабыть то, на что тут я решился, — а именно жить в кротости и покое, вечно единый с прекрасной природой, — и никоим образом не должен этот «я» нарушить установившуюся, вернее, провозглашенную тут гармонию. Стоит обратить внимание на то, что все такие гимны, включая и тоблеровский, сотканы из сплошных восклицаний и риторических вопросов, — провозглашаемая гармония достигается через внутреннее беспокойство, экзальтацию и даже экстаз, хотя, впрочем, сам порядок восклицаний и вопросов, молений и заверений утвержден риторическим сознанием и умением, хорошо знающим, как надо обращаться со своей темой, со своим материалом, как надо диспонировать любой текст, так что само беспокойство с самого начала приобретает гармонический облик и служит — сама речь, сама ее последовательность — зримым залогом гармонии вообще.
В одной из ранних своих заметок (впервые опубликованной В.Дильтеем в 1891 году) Гёте излагает естественные возражения против такой картины самоограничения: человеку «приходится постоянно слышать, что душа должна становиться все проще и проще (einfältiger und einfältiger), направляться в одну-единственную точку, отделываться от любого многообразия отношений, и только тогда можно найти более надежное счастье в таком состоянии, которое есть дар, особое даяние Бога. Правда, мы, в согласии со своей манерой думать, не назвали бы такое ограничение даром, потому что недостаток чего-либо нельзя рассматривать как дар, но мы хотели бы смотреть на него как на благодать Природы, — коль скоро уж человек в состоянии достигать лишь весьма неполных и несовершенных понятий, так она и снабдила его такой удовлетворенностью узости»[10].
Не только гимн Природе из романа «Дафнис», но и все творчество Геснера пропитано этой «удовлетворенностью узости», или «довольством своей узостью». Однако было бы до крайности близоруко обращать это в упрек поэту, поскольку в его текстах и запечатлелось определенное самоистолковывание человека, человеческой личности, каким оно было еще возможно в 1760—1770-е годы, — такое самоистолковывание, что сейчас необходимо всячески подчеркивать, построено исключительно на рефлексии, составляющей самую суть и плоть всей культуры сентиментализма: хотя рефлекти-руется не что иное, как «чувство», то есть определенным образом понимаемое, истолковываемое «чувствование»/«сантиман» = «санти-мент», и это «чувство» очень хотело бы свестись к чему-то «простому» и застрять в такой простоте, но простота-то достигается способом сложным, через непрестанное и бесконечное вращение в нерасторжимом кругу саморефлектирования, — собственно, не достигается, а лишь усматривается как цель. Сочинения Геснера, как это ни покажется кому-то странным, — это не плод «простой» самоуспокоенности, именно потому и удовлетворяющийся перетасовкой одних и тех же недалеких сюжетных мотивов, так и даже попросту ключевых, все повторяющихся слов (пока сами такие слова производят на сознание, какое узнает себя в них, завораживающее впечатление, их можно рассматривать как микротексты культуры), а это схваченный итог все продолжающейся рефлексии, размышлений самой эпохи над самой собою, причем эпоха обнаруживает, что еще может художественно-мыслительно самоограничиться и разуметь себя в терминах самоуспокоенности. Все и всякие холмы, луга, деревья, ручьи Геснера, его «покой» и «кротость», и «светлая радость» — все это на самом деле термины такого самоистолкования; они несут на себе поэтическую нагрузку, они даже сами по себе, по отдельности, «звучат» на тогдашний слух «поэтично», а вместе с тем они служат и устоями рефлективного самоистолкования, причем и первое, и второе — во взаимообусловленности: такие слова-термины потому-то и поэтичны, что в них запечатлены акты самоузнава-ния (мыслью культуры — самой себя), и они интеллектуально-значимы вследствие того же самого «тотального» — душевно-чувствен-но-духовного самоузнавания-самоотождествления со своим миром, с его пределами-краями, в какие упирается мысль и взор — в эти холмы, деревья, берега ручейков и т. д. и т. п.