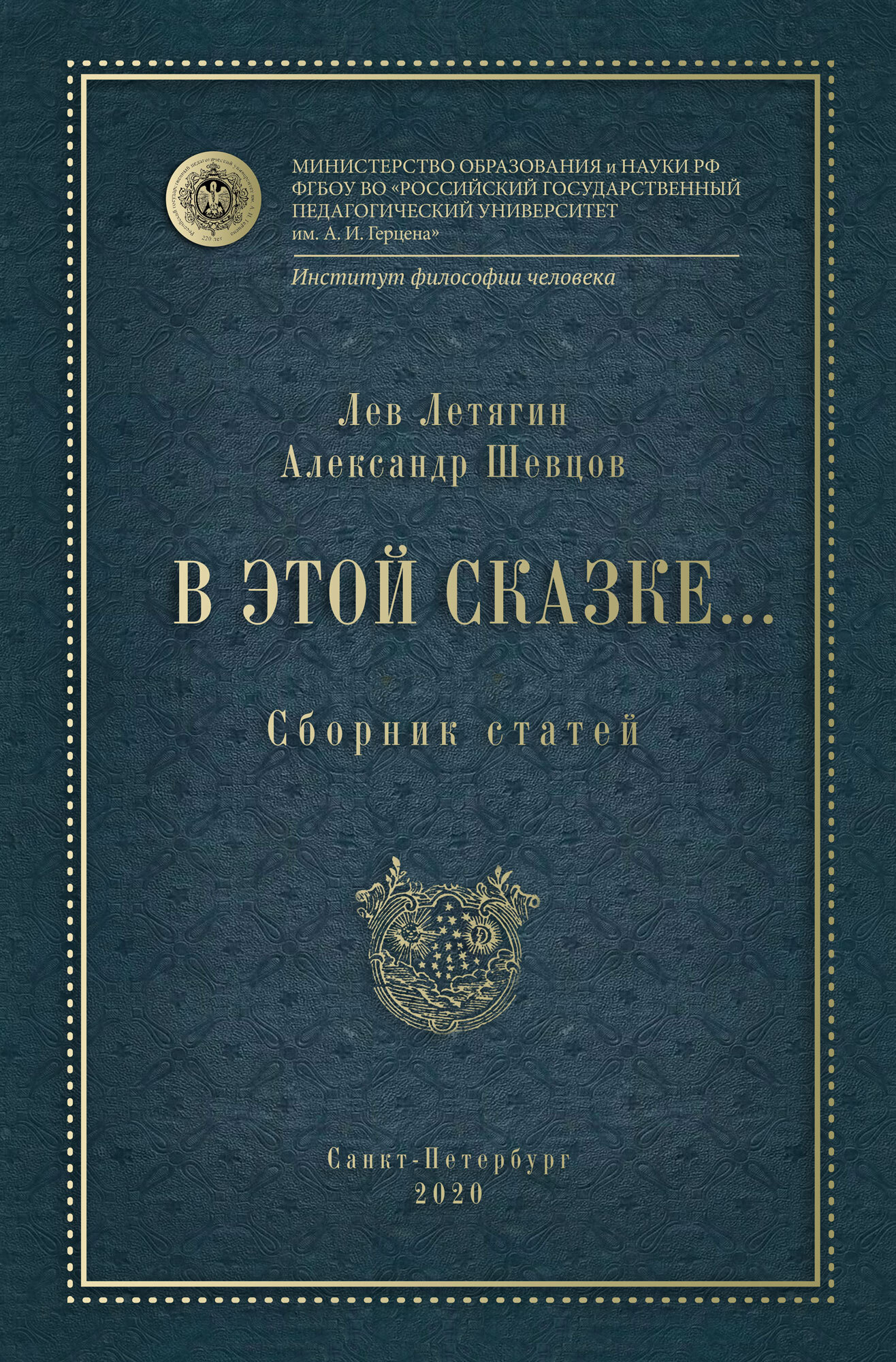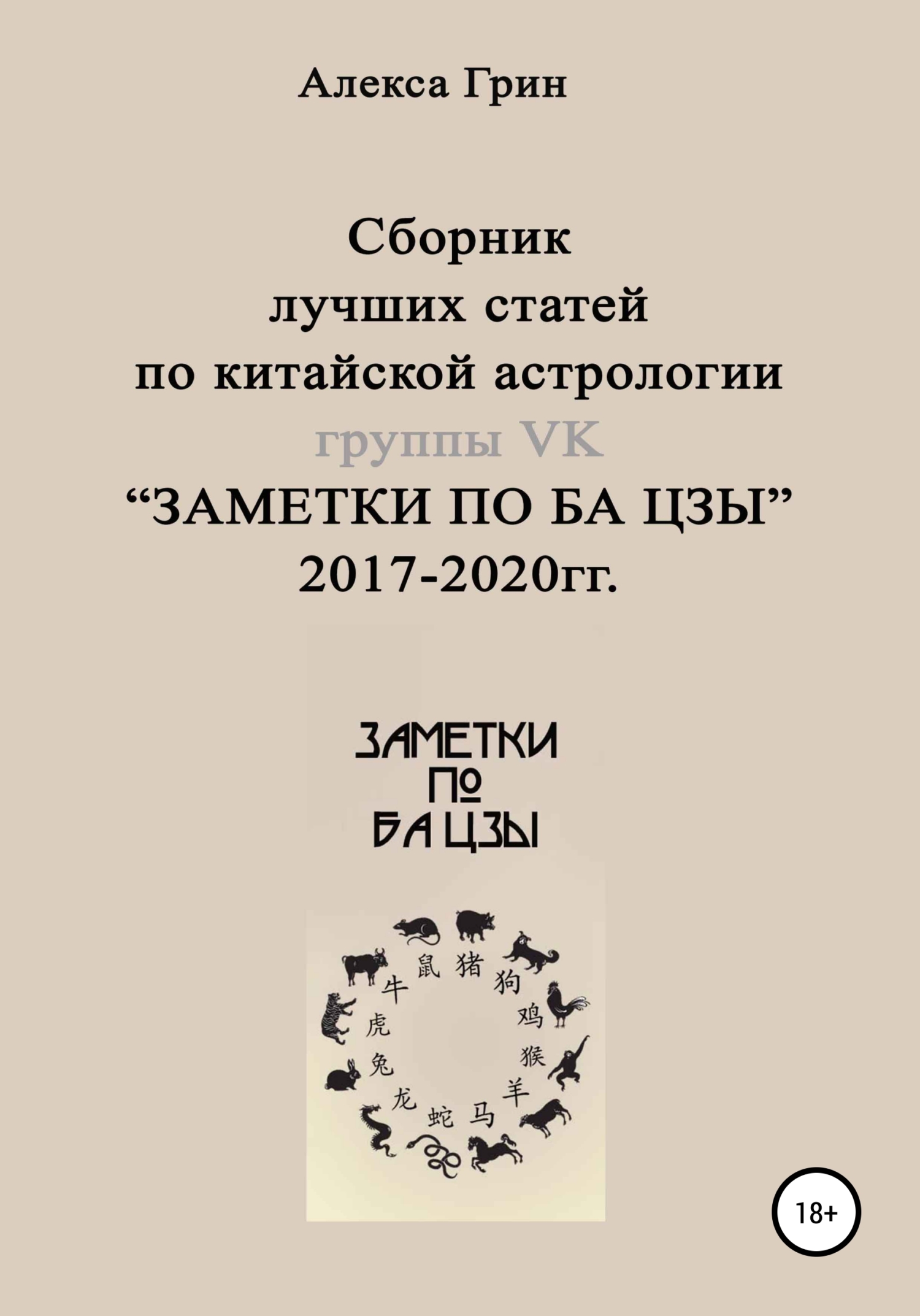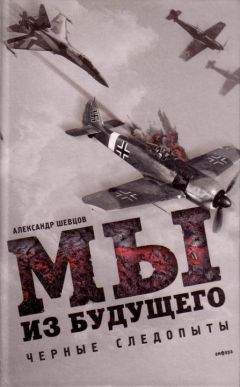родину ее мы можем искать в Европе, Северной Африке или Азии (Кроме Дальнего Востока), ибо в остальные районы земного шара она проникла сравнительно недавно».
Когда это могло произойти? Вопрос, вызывавший множество споров, поскольку кто-то возводил волшебную сказку, подобно Проппу, к неопределенной «дописьменной эпохе», кто-то, как фон Сидов, к праиндоевропейцам, кто-то даже к доиндоевропейской матриархальной культуре или к эпохе неолита… Но есть и противоположная тенденция – видеть возникновение сказки в Возрождении.
Исследуя доступные нам древние тексты, Зайцев вводит временные рамки, в которые могла возникнуть сказка. С одной стороны:
«Во всяком случае, во всей доступной нам письменности древнего мира нет никаких следов существования волшебной сказки в III, во II или начале I тыс. до н. э. Новые публикации текстов, прежде всего клинописных, приносят нам памятники различных жанров, в том числе и с явной фольклорной основой, но не волшебную сказку» (т. ж. с. 87–8).
С другой стороны:
«Однако неоспоримым фактом остается использование римским писателем II в. н. э. Апулеем во вставном рассказе об Амуре и Психее романа «Метаморфозы» типичной волшебной сказки» (т. ж. с. 87).
Таким образом, Зайцев постепенно сводит поиск к середине первого тысячелетия до нашей эры, ко времени, которое Карл Ясперс назвал «осевым»:
«Исследователи прошлого человечества давно уже обратили внимание на поразительные перемены, происшедшие в идеологии ряда народов от греков до китайцев в середине I тыс. до н. э.» (т. ж. с. 89).
Зайцев связывает эти перемены с распространением железа, появляющегося на рубеже первого тысячелетия до н. э., а значит, с ростом надежды преодолеть все сложности, с которыми сталкивается человек. Именно этим он объясняет ту особенность сказки, что она всегда завершается благополучно.
Гипотеза, что сказка возникает, как и важнейшие учения той поры, подобно греческой философии, зороастризму, буддизму, конфуцианству и даосизму, заставляет нас предполагать, что у сказки был создатель. Не в смысле рассказчика, вроде аэда, но именно создатель самого жанра.
Чем характерен этот жанр?
Определяя важнейшие черты сказки, Зайцев исходит из двух подходов. С одной стороны, он, безусловно, разделяет взгляды В. Я. Проппа на то, как строится сказка из обязательной последовательности типологически сходных шагов. Эти шаги были определены Проппом в 1928-м году в «Морфологии волшебной сказки», а затем уточнены в «Исторических корнях волшебной сказки».
Второй подход был высказан в 1929 году голландско-немецким языковедом Андре Иоллесом в «Простых формах» (Einfache Formen).
Я совершенно разделяю взгляды Проппа на то, что сказка возникает как инициационный текст и, по сути, описывает то, что проходит посвящаемый во время молодежной инициации, как путь преобразований и обретения состояния, дающего право стать членом общества и завести семью.
Но в данном случае я бы хотел остановиться на взглядах Иоллеса, поскольку они дают большой простор для психологического объяснения пути посвящения. В изложении Зайцева мысли Иоллеса выглядят так:
«В основе предложенной им общей теории фольклорных жанров лежат как-то связанные с романтической традицией довольно неопределенные представления о формировании фольклора из речевой деятельности. Эти идеи сразу вызвали критические замечания и являются неприемлемыми уже в силу того, что они едва ли могут быть сформулированы в поддающейся научной проверке форме.
Однако его конкретные характеристики ряда фольклорных жанров и в том числе сказки (Иоллес имеет в виду волшебную сказку), улавливают, как нам кажется, конституирующие признаки и могут в этом смысле считаться основополагающими» (т. ж. с. 84).
В сущности, Зайцев добавляет взгляды Иоллеса к базовой теории Проппа. И добавляет именно психологическую часть его взглядов:
«В отношении волшебной сказки вместо давно сделанного наблюдения об оптимизме этого жанра Иоллес говорит гораздо точнее, что в сказках все происходит, как это, по нашему ощущению (Empfinden), должно было бы происходить в мире: сказка противостоит в этом смысле действительности.
В сказке этот принцип проводится с поразительной последовательностью. Торжествуют чаще всего обиженные: младший брат или падчерица, герой, преследуемый не только «вредителем», но и ложным героем. Все препятствия оказываются легко преодолимыми для подлинного героя, с которым может внутренне идентифицировать себя любой слушатель.
Замечательное свойство сказки, которое подчеркивает Макс Люти: злодеи часто жестоко наказываются, но описывается это в такой форме, что никогда не вызывает у слушателя отрицательных эмоций» (т. ж.).
Сам Зайцев, определяя время возникновения сказки, связывал ее появление с культурным переворотом в Греции, «отвергающим мир орфизма», когда появлялись новые религиозные взгляды. Мы прекрасно знаем, что период греческой классики завершается к первым векам до нашей эры, так называемым, эллинизмом, во время которого появляются новые культы. Самым древним из них, безусловно, был культ Орфея. Затем приходит культ Митры, который продержится до четвертого века нашей эры, уступив место христианству.
Но христианство тоже относится к числу новых культов. И если мы вчитаемся в описание сказки, мы можем разглядеть, что основной миф христианства, который и захватил души людей, чрезвычайно похож на сказку по своим действенным чертам: верующим обещано, что за веру воздастся добром, что зло будет наказано, а мир будет принадлежать слабым, нищим духом и обиженным…
Исследователи давно установили, что большую часть культовой, церковной практики ранние христиане позаимствовали у митраизма. Вплоть до рождения бога 25 декабря. Даже иконография Митры была положена в основу иконографии Христа, как и победа его над змеем знакома каждому по образу Георгия-победоносца. Сходство христианства и митраизма было настолько сильным, что ранние христианские теологи, к примеру, Иустин или Тертулиан, усматривали в митраизме сатанинскую имитацию и подделку.
Гораздо меньше известно, что в той же мере иконописный Христос похож на Орфея. При беглом взгляде на картину, где менады убивают Орфея, невольно узнаешь побивание какого-нибудь христианского святого или распятие самого Христа. Однако внешнее сходство не главное.
Орфизм был полурелигиозным-полуфилософским учением о равенстве всех людей, независимо от сословий. Орфизм говорил о том, что в человеке есть низшее – титаническое начало, и высшее – духовное. И он должен очиститься от скверны в аскезе, то есть в упражнениях, и достичь близости с богами. Орфей запрещал проливать кровь, животные приходили слушать его игру на лире, подобно тому, как приходили они слушать проповеди христианских святых.
Чтобы услышать его пение, скалы и деревья сдвигались с мест… Что называется, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», – и она перейдет! Орфизм передал христианству гораздо больше внутренних черт, чем Митраизм. И это, в первую очередь, мировоззренческие установки и вера в некую сказку. В какую?
Зайцев упоминает Апулеевскую сказку об «Амуре и Психее». То